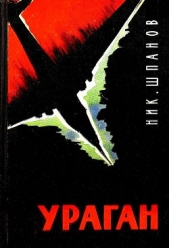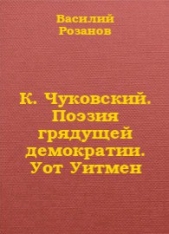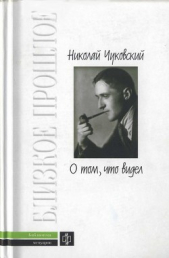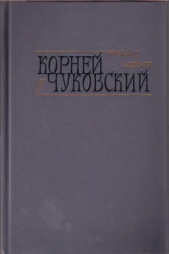Правда и поэзия

Правда и поэзия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем...
Там есть воспоминания о революционном Петрограде:
Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи. В черном бархате всемирной пустоты Все поют блаженных жен крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты.
В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме Искусств и у Наппельбаумов. Из Дома Искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок был высочайший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу стояли старинные часы- величиной с шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос - "и одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада. Я вспомнил эту комнату в Доме ученых, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение "Соломинка", казавшееся многим непонятным:
В часы бессонницы предметы тяжелее, Как будто меньше их - такая тишина - Мерцают в зеркале подушки, чуть белея, И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не соломинка в торжественном атласе, В огромной комнате над черною Невой, Двенадцать месяцев поют о смертном часе, Струится в воздухе лед бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит свое дыханье, Как будто в комнате тяжелая Нева. Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье - Я научился вам, блаженные слова.
Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои более близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне большую услугу и выручил меня из беды ...>
Положение мое казалось мне ужасным (Н. К. Чуковский приезжал в 1922 году в Москву предлагать книжным магазинам тираж поэтического сборника "Ушкуйники", который он, один из авторов, выпустил, как издатель, в Петрограде "в кредит"). Во-первых, у меня не было ни одной копейки. Во-вторых, в Москве я не знал ни одного человека и мне негде было остановиться. С горя я съел банку сгущенного молока с хлебом.
В Москве было солнечно и очень жарко. Не зная, что предпринять, я спросил, где центр, и медленно побрел по Мясницкой*У меня не было даже несчастных двухсотпятидесяти тысяч на трамвайный билет. Да и куда ехать? Я прошел Мясницкую, Кузнецкий мост, Тверскую, заходя в книжные магазины. У меня с собой был один экземпляр "Ушкуйников", я показывал его магазинщикам и спрашивал, сколько экземпляров такой книжки они могли бы купить у меня. Очень скоро мне стало ясно, что все книжные, магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что все зря - расплатиться с типографией не было надежды. Да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь свой груз целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.
Днем на бульварной скамейке я пообедал - сгущенным молоком с хлебом. Жара стояла изнурительная, от сладкого сгущенного молока меня тошнило, хотелось пить. Я уже не искал книжных магазинов, а бесцельно бродил по бульварному кольцу из конца в конец. Долгий жаркий день погас. Я присел на скамейку на Тверском бульваре и провел на ней всю ночь.
Я дремал, сидя. Бульвар постепенно пустел. Дольше всех на бульваре оставались проститутки. Они ходили мимо меня взад и вперед, как солдаты на часах,- до фонаря и обратно. Когда они поворачивались под фонарем, серьги их вспыхивали.
Перед рассветом стало холодно, и мне захотелось есть. Я опустошил третью банку сгущенного молока и швырнул ее в траву. Я доел свой хлеб. Потом положил под голову пустой мешок, растянулся на скамейке и заснул крепчайшим сном.
Проснулся я, когда солнце плыло уже высоко над крышами, почувствовав, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня.
Оказалось, я, сам того не зная, провел ночь как раз напротив Дома Герцена (Тверской бульвар, 25), тогдашнего литературного центра Москвы, где в левом флигеле занимал в то время комнату Мандельштам.
Несмотря на то что Осип Эмильевич знал меня довольно мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с собой на скамейку, в тени под липой. Мы начали прямо со стихов - все остальное нам обоим казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:
Я по лесенке приставной Лез на всклоченный сеновал,- Я дышал звезд млечной трухой, Колтуном пространства дышал... Потом он попросил читать меня.
Я читал последние свои стихи, читал старательно, и именно так, как читал он сам и все акмеисты,-т. е. подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил: - Еще.
И я читал еще. Когда я прочитал все, что мог, он сказал:
- Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.
Это суждение было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи. Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж. Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна - один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить....> Осип Эмильич отнесся к "Ушкуйникам" с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.
- Ну, это мы сейчас уладим,- сказал он мне.- Пойдемте.
И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Мандельштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня мою накладную на "Ушкуйники" и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей.
Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом запихался в мой пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией.
О журнале "Корабль" я больше не помышлял. Можно ли издавать журнал с компаньоном, который поступил со мной так подло! А чтобы издавать его одному, было мало моего миллиарда, да и после мытарств с "Ушкуйниками" затея эта мне изрядно опротивела. Я попрощался с Мандельштамом и пошел на вокзал, таща свой миллиард за плечами.
Счастливый, шел я пешком, чтобы посмотреть Москву. На всех перекрестках стояли лотки с надписью "Моссельпром", и с этих лотков женщины в белых халатах продавали папиросы, конфеты, шоколад. "Моссельпром" был государственной торговой организацией, созданной для вытеснения частников. Из всего, что было на этих лотках, меня больше всего прельщал шоколад. В предпоследний раз я ел шоколад в 1916 году, когда отец мой, вернувшись из Англии, привез нам, детям, по плитке. В последний раз я ел шоколад в 1919 году на банкете, устроенном в Доме Искусств в честь приезда Уэллса. С тех пор прошло уже около трех лет, и все это время я хранил о шоколаде смутное воспоминание, как о чем-то блаженно-вкусном. Теперь я мог себе позволить есть шоколад. На каждом перекрестке я останавливался, закидывал руку к себе за спину, на ощупь вытаскивал из мешка несколько миллионов и покупал плитку шоколада с орехами. Я съедал ее до следующего перекрестка и там покупал себе новую. Шоколад размякал от солнца и тек по пальцам, но от этого казался мне не менее прекрасным. Так я дошел до вокзала. Ночью я спокойно спал в вагоне, положив голову на свой миллиард. На другой день я получил в типографии квитанцию в уплате долга. Авторам "Ушкуйников" я, к величайшему их удивлению, выдал гонорар. Остальные деньги отдал матери.