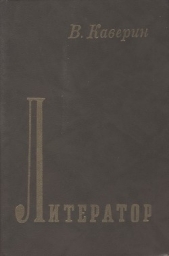Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)

Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове) читать книгу онлайн
Творчество Юрия Тынянова в советской литературе занимает выдающееся место — его исторические романы, повести, рассказы, его статьи, его историко-литературные, теоретические и критические работы, его сценарии и переводы — все это богатое наследие писателя продолжает жить в нашей культуре. В настоящей книге своими воспоминаниями о Тынянове делятся такие известные мастера советской культуры, как П. Антокольский и И. Андроников, И. Эренбург и С. Эйзенштейн, К. Чуковский и К. Федин, Л. Гинзбург и В. Каверин, Г. Козинцев и Н. Степанов, Б. Эйхенбаум и В. Шкловский, а также ученики и соратники по работе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, возвращаясь к строго научным статьям, он писал скупо, ни на кого, кроме себя, не равняясь. Иные страницы читаются как формулы, выстроившиеся согласно охватывающему общему взгляду.
Мы были близкими друзьями и в течение многих лет виделись почти ежедневно. Когда он писал «Кюхлю» и торопился, потому что издательство «Кубуч» заказало ему повесть в несколько печатных листов, а роман перевалил за семнадцать, он попросил меня написать одну из маленьких главок. Я охотно исполнил просьбу. Главка — двадцатая из главы «Побег» — начинается словами: «Из Минска в Слоним, из Слонима в Венгров, из Венгрова в Ливо, из Ливо в Окунев, мимо шумных городишек, еврейских местечек, литовских сел тряслась обитая лубом повозка, запряженная парой лошадей, одной чалой, с белой лысиной на лбу, другой — серой». Только этот зачин Тынянов оставил почти нетронутым, а весь остальной текст основательно переделал. В свою очередь, когда я писал роман «Скандалист», он наметил прощальный издевательский доклад профессора Драгоманова «о рационализации речевого производства». В своих воспоминаниях Чуковский рассказал о том, как был задуман и написан «Кюхля», и я не стану повторять этой известной истории. Добавлю только, что наряду с внешними обстоятельствами, заставившими Тынянова приняться за прозу, были и другие, внутренние. Вот что он писал об этом в своей неопубликованной при жизни автобиографии: «В 1925 году написал роман о Кюхельбекере. Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. ...Художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. «Выдумка» — случайность, которая зависит не от существа дела, а от художника. И вот когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве ощущение подлинной правды: так могло быть, так может быть, было».
В «Кюхле» Тынянов впервые подошел к историческому документу как художник. «Есть документы парадные, и они врут, как люди, — писал он впоследствии. — У меня нет никакого пиетета к «документу вообще». Человек сослан за вольнодумство на Кавказ и продолжает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его...»
Но самое совершенное знание материала, как известно, не создает еще художественного произведения. В «Кюхле» был создан характер. Писатель и революционер, «пропавший без вести, уничтоженный, осмеянный понаслышке», как писал Тынянов о Кюхельбекере в предисловии к собранию его сочинений, ожил перед нами во всей правде чувств, со всей трогательной чистотой своих надежд и стремлений. «Кюхля» — это роман-биография, но, идя по следам главного героя, мы как бы входим в портретную галерею самых дорогих нашему сердцу людей — Пушкина, Грибоедова, Дельвига, и каждый портрет — а их очень много — нарисован свободно, тонко и смело.
На последних страницах романа Кюхельбекер показывает жене на сундук с рукописями: «Поезжай в Петербург... это издадут... детей определить надо». Этот сундук с рукописями впоследствии действительно попал в Петербург и долго находился в распоряжении одного из сыновей Кюхельбекера. Не знаю, какими путями, но в 1928-1929 годах к рукописям получил доступ некий антиквар, который, узнав, что Тынянов собирает все написанное Кюхельбекером, стал приносить ему эти бумаги, разумеется, по градации: от менее к более интересным. Тынянов тратил на них почти все, что у него было, и постепенно «сундук» перешел к нему.
Я помню, как в письме поэта Туманского к Кюхельбекеру он нашел несколько слов, написанных рукою Пушкина. Это было торжество из торжеств!
...Тынянов работал неровно — то месяцы молчания, то печатный лист в день. Так, в один день была написана глава о Самсон-Хане в романе «Смерть Вазир-Мухтара».
Но и месяцы его молчания были работой. Почти всегда он переводил Гейне — на службе, на улице, в трамвае.
Работая, он разыгрывал сцепы, и, так как я знал, кто стоит за иными из его героев, это были сцены современной жизни, хотя действие их происходило в 20-е годы прошлого века. Он был талантливым имитатором — однажды от имени некоего журналиста заказал Б. М. Эйхенбауму срочную статью для «Известий» по телефону и через полчаса, когда тот уже сидел за столом, позвонил снова и смеясь отменил предложение. Он писал шуточные стихи, эпиграммы, некоторые из них сохранились в архиве, в «Чукоккале». На серапионовских «годовщинах» читались его шуточные стихи. В одном из них каждая строфа представляет собою беглый, по выразительный рисунок.
Не футурист, не акмеист, Не захвален и не охаян, Но он в стихах кавалерист — Наш уважаемый хозяин.
Это — Тихонов, служивший до революции в гусарском полку.
Не заставая меня дома, Тынянов неизменно оставлял шутливую стихотворную записку.
Он был человеком расположенным, то есть всегда готовым выслушать, объяснить, помочь в беде, — и железно упрямым во всем, что касалось литературы. Его мягкость, уступчивость, нерешительность на литературу не распространялись. В литературных кругах его мнение считалось золотым, неоспоримым. Когда был организован Союз писателей и мы получили подписанные Горьким билеты, Тынянову был вручен билет номер один — факт незначительный, но характерный.
Если бы я был историком литературы, я бы непременно занялся отношениями между Тыняновым и Маяковским, который, встретившись с ним после выхода «Кюхли», сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». Тынянов писал о Маяковском как о великом поэте, возобновившем грандиозный образ, утерянный со времен Державина, чувствующем «подземные толчки истории, потому что и сам когда-то был таким толчком». Это ничуть не мешало ему шутить над «производственной атмосферой» Лефа.
Часто цитируют письмо Горького к Тынянову в связи с выходом «Смерти Вазир-Мухтара». Не знаю, можно ли выразить с большей силой признание таланта исторического романиста, чем это сделал Горький, оценивая портрет Грибоедова: «Должно быть, он таков и был. А если и не был — теперь будет». Эти слова определяют, в сущности, основную задачу самого жанра исторической прозы.
Я был у Горького вместе с Тыняновым, кажется, в 1931 году. Шел разговор о создании «Библиотеки поэта», а в сущности — о генеральном смотре всей русской поэзии. Можно смело назвать Тынянова рядом с Горьким в этом огромном, еще продолжающемся деле. Но они говорили и о другом. Горький знал, что в 20-х годах Тынянов работал в кинематографии, и уговаривал его вернуться к этому делу.
Веселый, добрый, вежливый человек, любивший шутки и эпиграммы, Юрий Тынянов прожил незаслуженно мучительную жизнь. Он рано и тяжело заболел это было неудачей личной, несчастьем, касавшимся его и его близких. Но были другие, общие несчастья. Придя к нему однажды осенью 1937 года, я нашел его неузнаваемо изменившимся, похудевшим, бледным, сидящим в кресле с бессильно брошенными руками. Он не спал ночь, перебирая свои бумаги, пытаясь найти письмо Горького, глубоко значительное, посвященное судьбам русской литературы, — еще недавно мы вместе перечитывали его. Теперь его мучила мысль, что он сжег его случайно вместе с другими бумагами, в которых, разумеется, не было ничего преступного. Я кинулся доказывать, что письмо найдется, что он не мог его сжечь.
— Нет, мог, — сказал он с отчаянием. — Я не знаю, не вижу, что делаю. У меня голова помутилась.
И он заговорил о невозвратимой гибели архивов, свидетельств истории, собиравшихся десятилетиями, — бесценных коллекций, в которых отразилась вся частная жизнь России.
Ни прежде, ни потом, в самые трудные годы, я не видел его в таком отчаянии. Всегда он держался спокойно, с достоинством писателя, не забывающего, что он работает в великой литературе.