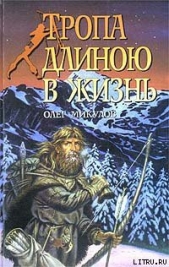Баллада о Савве

Баллада о Савве читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Погасла среди ночи в его келье лампада под образом Спаса. Инок поднялся, чтобы засветить ее сызнова, но тут же обмер, пораженный неземным видением: от иконы исходило, рассеивалось по обители ровное, едва уловимое сияние. Не смея более взгляда воздеть на образ Спасителя, упал Кирилл у преддверия Его лицом вниз, да так и остался лежать, пока знакомая ладошка не шлепнулась ему на плечо.
- Воспрянь, святой Кирилл, ты - сподобился.
На мгновение ожгло было сомнение Кирилла - откуда, мол, игумен тут как тут? - но сразу же пришло утешение: "На то он и настоятель, что ему дано все знать, читая в помыслах иноковых". Кирилл поднялся с полу, а старик, опускаясь перед ним на колени, смиренно приложился к его руке:
- Смертным да отпущаеши. Се предначертание креста твоего. И не нам, грешным, молить за тебя, ибо твоей молитвой живы мы от сего дня.
А с рассветом, после благодарственной службы, вышел уже не инок, а святой отец Кирилл из ворот монастыря Соляного с объяснительным письмом игумена к Нижневирскому архимандриту Никодиму на груди. А вслед ему торопился, бежал, полз восторженный шелест монастырской братии:
- Сподобился...
И на разные лады:
- Сподобился?
- Сподобился!
- Сподобился...
Ступив на большак, выметанный первым октябрьским морозцем, Кирилл обернулся, чтобы поклониться башенному Распятию, и вдруг неожиданно для себя уловил он в блеклых настоятелевых глазах жирную искру лукавого довольства. Искра сразу погасла под опущенными ресницами, успев все же ожечь в прохоровском сердце давным-давно заглохшую струну: "Дяденька-а-а!"
Кирилл, тронутый страшной догадкой, застыл было на мгновение, но крестное знамение игумена уже осеняло его путь.
Заночевали под крышей: Кирилл отыскал брошенную заимку, но огня опять-таки не зажигали - до Хамовина оставалось километров десять. Слышно было даже, как. где-то на отдаленном повале тягачи трелевали лес. Перед сном Савва никак не мог отделаться от ощущения совершенной давеча оплошности. Наконец не выдержал, сказал:
- Обиделся, Кирилл?
- Эх, милый, - в голосе старика затеплилось неожиданное дружелюбие, может, и обиделся бы, да нечем. Ни одного не обиженного во мне места не осталось... Какие уж там обиды!.. А Бог, милый, Бог у каждого свой... У тебя свой, у меня - свой... У Александра вон тоже, верно, свой есть...
- Нет, - ответила темь Сашкиным голосом и еще настоятельнее повторила: Нет, нету.
- А не тяжко?
- Пусть. Не хочу.
- Найдешь, Александр.
- Найду - выброшу.
- Не кошелек ведь...
- Убью кого-нибудь.
- А как же жить будешь, Александр?
- А я не хочу жить.
- Куда же идешь?
- К морю.
- А зачем, Александр?
Темь молчала: Сашка считал разговор оконченным. Кирилл тяжко вздохнул и тоже затих. Савва поспешил переменить тему:
- Лишь бы завтра ветру не нагнало. Не выберешься тогда на душегубке. Еще день пропадет.
- Здесь загодя не угадаешь, - примирительно откликнулся старик. - Океан близко. Да вроде не должно бы.
- Лишь бы на тот берег...
- Будешь...
- Одну бы только ночку тихую...
- Уповай...
Разговор не клеился. И снова в наступившей тишине стало слышно, как на отдаленном повале тягачи трелюют лес. После недолгой паузы Кирилл неожиданно, с силой, проговорил:
- Есть Бог, есть! Он в людях, в людей ушел. Только не на всех хватило. Переделить надо сызнова. Чтобы всем поровну.
И замолчал, и уже не заговаривал более.
Долгие зори сквозного северного лета Кирилл привык встречать у скитского порога. Обомшелым грибом темнела его обитель на краю обрыва, под которым чуть слышно плескалась в песчаные берега студеная Вязь. Мир отсюда виделся просторным и безмятежным, и всякий раз, когда старик выходил на порог, душу его охватывала праздничная, облегчающая ясность, а губы сами складывались в молитвенное благодарение.
Кирилл прислушался: кто-то всходил скитской тропой. Он стал вглядываться в чащобу. В просветах между ветвей вспыхнуло, с каждым мгновением все увеличиваясь, яркое пятно женского платка. Через минуту из леса показалась женщина. Вышла на скитскую плешину, резко встала, а затем быстро-быстро, сбивчивой походкой устремилась к старику. Шагах в трех от него она разом, будто ее подломили сзади, упала перед ним на колени, выдохнув едва слышно:
- Освободи, святой отец!
Женщина смотрела на него, как на икону, униженно и самозабвенно. Огромные серые глаза на худом, в расползающихся пятнах лице ее выглядели чужими, случайными.
Кому-кому, а Кириллу доподлинно ведомы все нехитрые бабьи беды. Уже через минуту костистое плечо ее затихло, усмиренное стариковой ладонью.
- Не ропщи, не сетуй на судьбу, ибо и она промысел Божий. Молитвой вознесись над грехами своими, и Он услышит, и Он простит. Все мы - ничто. Он все... Иди... Я помолюсь, сниму тяжесть. Иди... Иди с Богом... В спокойном сердце Царствие Божье.
Влажными губами женщина приникла к его вялой руке, а потом молча поднялась и пошла тою же тропой легко и ровно. У скитского порога, как память о ней, остался узелок с платой за очищение: кусок пирога-рыбника.
Цветастый платок бесшумной птицей еще некоторое время помельтешил в ближней листве, пока наконец не погас в шелестящих сумерках.
В часы одиночества Кирилл словно бы растворялся в окружающем, ему начинало казаться, что плоть его улетучивается, оставляя душу один на один с целым миром. Он вбирал собою всю эту благость, но сны, сны, которых он не любил и боялся, уже стерегли урочное мгновение. Податливые веки наливались тяжестью, спину сводила истома, и в мир тишины и покоя всей своей обжигающей тяжестью обрушивались видения. Суетные, земные, греховодные. Им было не до святости. Это потому, что они никем не придумывались, а существовали сами по себе...
Сумерки, точно живые, крались изо всех чащобных тайников, обволакивая балки и овраги дремотным оцепенением. Кирилл бродил по лесу, вслушиваясь в вещее его дыхание.
Здесь все было исполнено для него смысла и значительности. Он шел, не выбирая пути, и оттого неожиданно для себя выбрался на опушку. Внизу курилось трубными дымками вечернее село. Дома здесь не жались друг к другу, как там, в России, а стояли вразброс: кряжистые - бревно к бревну - с высокими по-северному окнами, щедро обрастая надворными клетями. Снизу тянуло пометом и прелой соломой. На короткий миг душу его осветила ревностная зависть ко всему этому - селу, домам, запаху, и где-то в самом глухом закоулке памяти, словно эхо, отдалось давнее, забытое: "Дяденька-а-а!" - но тут же, чтобы избавиться от наваждения, пошел прочь, правда, чуть поспешнее, чем обычно. На полпути к скиту, у неглубокого оврага, старик сделал передышку: не попрыгаешь много на деревяшке. А здесь у него в полувенце из трех сросшихся берез имелся пенек. Он сел, словно утонул в сумерках. И тишина сомкнулась над ним. Но постепенно, исподволь, оттуда, из оврага, сначала неясно, потом все отчетливее и явственней его сознание выделило два голоса, ведущих отрывистый, почти лихорадочный разговор.
Первый:
- Боюсь я, Федя. Не за себя - за тебя боюсь. Зверь ведь он, истинный зверь.
Второй:
- Глупая ты, Оля. В наше время и не таких скручивают. Запугал он тебя насмерть. Страхом и берет. А ты плюнь, едем со мной. Я тебя от всякого ветра укрою.
- Грех ведь, Федюша, муж он мне. Венчанный. А то бы хоть с завязанными глазами.
- Какой же он муж тебе? Силой взял, силой жить заставляет. Четвертый десяток советской власти, а у нас здесь сплошной домострой. Религию справляете, поп заместо предсовета барином по деревне ходит. Куда только организации смотрят?
- А как же без Бога-то, Феденька? Ведь вот и у нас с тобой - грех. Куда же я душу опосля всего дену?
- Как хочешь, а я тебя из этого болота вытяну. Силой, но увезу. Люблю я тебя, понимаешь? Не баловаться с тобой хочу - жить, понимаешь?.. Эх, все слова в твоем страхе вязнут.