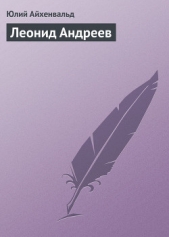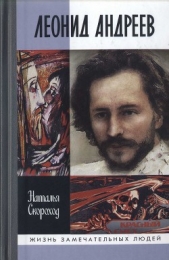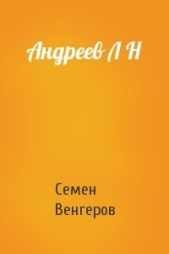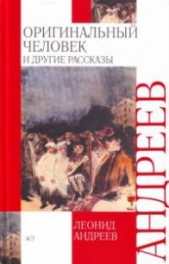Том 1. Рассказы 1898-1903

Том 1. Рассказы 1898-1903 читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли рассказы 1898–1903 гг.
Вступительная статья А.В. Богданова. Комментарии В.Н. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С поспешностью я уходил, но долго еще подлая зевота сводила мои скулы, и в слезящихся глазах ломались и прыгали деревья.
Однажды с почтового поезда сняли безбилетного пассажира, и это было праздником для скучающего жандарма. Он подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирепо, лицо стало сосредоточенно и зло, — но счастье было непродолжительно. Пассажир заплатил деньги и торопливо, ругаясь, вернулся в вагон, а сзади растерянно и жалко тренькали металлические кружки, и над ними расслабленно колыхалось обессилевшее тело.
И порою, когда жандарм начинал зевать, мне становилось за кого-то страшно.
Уже несколько дней около станции возились рабочие, расчищая место, а, когда я вернулся из города, пробыв там два дня, каменщики клали третий ряд кирпича: для станции воздвигалось новое, каменное здание. Каменщиков было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотреть, как вырастала из земли прямая и стройная стена. Залив цементом один ряд, они устилали следующий, подгоняя кирпичи по размеру, кладя их то широким, то узким боком, отсекая углы, примериваясь. Они размышляли, и ход их мыслей был ясен, ясна и их задача, — и это делало их работу интересною и приятною для глаза. Я с удовольствием смотрел на них, когда рядом прозвучал начальственный голос:
— Слушай, ты! Как тебя! Не тот кладешь!
Это говорил жандарм. Перегнувшись через металлическую решетку, которая отделяла асфальтовую платформу от работающих, он показывал пальцем на кирпич и настаивал:
— Тебе говорю! Борода! Вон тот положь. Видишь — половинка.
Каменщик с бородою, местами белевшей от извести, молча обернулся, — лицо жандарма было строго и внушительно, — молча последовал глазами за его пальцем, взял кирпич, примерил — и молча положил назад. Жандарм строго взглянул на меня и отошел прочь, но соблазн интересной работы был сильнее приличий: сделав два круга по платформе, он снова остановился против работающих в несколько небрежной и презрительной позе. Но на лице его не было скуки.
Я пошел в лес, а, когда возвращался назад через станцию, был час дня, — рабочие отдыхали, и было безлюдно, как всегда. Но у начатой стены кто-то копошился, и это был жандарм. Он брал кирпичи и докладывал пятый неоконченный ряд. Мне видна была только его широкая обтянутая спина, но в ней чувствовалось напряженное размышление и нерешительность. Очевидно, работа была сложнее, чем он думал; обманывал его и непривычный глаз, и он откидывался назад, качал головою и нагибался за новым кирпичом, стуча опустившейся шашкой. Раз он поднял палец вверх, — классический жест человека, нашедшего решение задачи, вероятно, употребленный еще Архимедом, — и спина его выпрямилась самоувереннее и тверже. Но сейчас же съежилась опять в сознании неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуре что-то притаившееся, как у детей, когда они боятся, что их поймают.
Я неосторожно чиркнул спичкой, закуривая папиросу, и жандарм испуганно обернулся. Секунду он растерянно смотрел на меня, и внезапно молодое лицо его осветилось слегка просительной, доверчивой и ласковой улыбкой. Но уже в следующее мгновение оно стало недоступно и строго, и рука потянулась к жиденьким усам, но в ней, в этой самой руке, еще лежал злополучный кирпич. И я видел, как мучительно стыдно ему и кирпича этого и своей невольной предательской улыбки. Вероятно, он не умел краснеть — иначе он покраснел бы, как кирпич, который продолжал беспомощно лежать в его руке.
Стену возвели до половины, и уже не видно, что делают на своих подмостках ловкие каменщики. И опять мается по платформе и зевает жандарм, и, когда, отвернувшись, проходит мимо меня, я чувствую, что ему стыдно, — он меня ненавидит. А я гляжу на его сильные руки, вяло болтающиеся в рукавах, на его нестройно брякающие шпоры и повисшую шашку — и мне все кажется, что это не настоящее, что в ножнах совсем нет шашки, которой можно зарубить, а в кобуре нет револьвера, которым можно насмерть застрелить человека. И самый мундир его — тоже не настоящее, а так, нарочно, какой-то странный маскарад среди белого дня, пред апрельским правдивым солнцем, среди простых работающих людей и хлопотливых кур, собирающих зерна под заснувшим вагоном.
Но порою… порою мне становится за кого-то страшно. Уж очень он скучает…
Жизнь Василия Фивейского *
Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался, — и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстановлял он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.
И случилась это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»
Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:
— Вася! А Вася?
— Что, милая? — покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестрижеными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. — Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?
— Вася, а Вася? — повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.