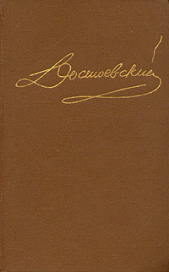Том 2. Повести и рассказы 1848-1852
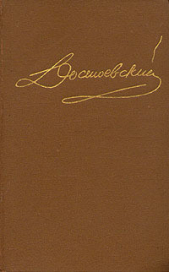
Том 2. Повести и рассказы 1848-1852 читать книгу онлайн
Во втором томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются цикл фельетонов «Петербургская летопись» (1847), рассказы «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», повесть «Слабое сердце», «сентиментальный роман» («из воспоминаний мечтателя») «Белые ночи» и оставшаяся незаконченной «Неточка Незванова». Эти рассказы и повести создавались в Петербурге до осуждения Достоевского по делу петрашевцев и были опубликованы в 1848–1849 гг. Рассказ «Маленький герой», написанный во время заключения в Петропавловской крепости в 1849 г., был напечатан братом писателя M. M. Достоевским без указания имени автора в 1857 г. «Дядюшкин сон», замысел которого возник и осуществлялся в Семипалатинске, опубликован в 1859 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зина, — говорил он, — Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя, — вот так, как теперь смотрю, — буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь… Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, — потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!
Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его,
— Что ты плачешь, мой ангел? — продолжал больной. — О том, что я умираю, об этом только? Но ведь всё прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного… не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я всё мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь всё это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств…
— Полно, — говорила Зина, — полно!.. всё это не так, напрасно… ты убиваешь себя!
— Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла — кто я таков; вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А я, я! Когда дошло до дела… Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, — куда! — может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час… Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но… но… о ангел ты мой!
Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым голосом.
— Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить! — сказала Зина. — Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!
— Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю, — продолжал больной. — Во всем я один виноват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! Рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день… ну, знаешь, после записки-то… и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, — но всё мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени… Я прощаю тебя, умирая на руках твоих… Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?
— Не поминай об этом! — сказала Зина, — не говори этого! ты не такой… будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!
— Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь всё то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. * Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?
— Нет, нет, Вася, нет! — говорила Зина. Она припала к нему на грудь и целовала его руки.
— А как я ревновал тебя всё это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караулил, шпионил… вот она всё ходила (и он кивнул на мать). — Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел мой! Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..
— Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!.. ты мой первый… всегдашний…
— Всё умирает, Зиночка, всё, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится, — не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О золотые, невозвратные дни… Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний, закатный час *. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас… А теперь! Посмотри, посмотри!
И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.
И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось всё хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он всё смотрела на Зину, всё искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он всё еще блуждающею, неверною рукою искал руку се, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу.