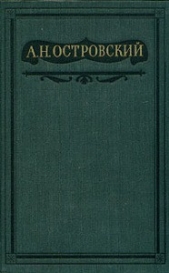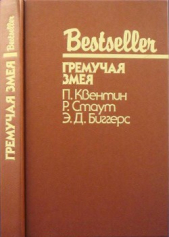Том 21. Избранные дневники 1847-1894

Том 21. Избранные дневники 1847-1894 читать книгу онлайн
В том включены избранные дневниковые записи Толстого за 1847-1894 гг.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Весь вечер с Стаховичами. Не только скучно, но совестно — так они далеки от меня; но зато, слава богу, не сорвался ни разу, несмотря на чепуху М. Стаховича и других. Лева приехал, рассказывал про назревающее столкновение Сережи и Ильи. Матерьялизм. Вот именно восьмидесятники.
28 августа. Ясная Поляна. 90. 63-й год мне. И совестно, что то, что 1890: 63 = 30, и что 28 лет моей женитьбе, что эти цифры представлялись мне чем-то значительным, и я ждал этого года как знаменательного. Встал поздно. Первое впечатление тяжелое — бабы, пришедшей за лошадью, которую опять отняли у нее для кумыса. Но я несправедлив был, зол. Вчера сказали, что сгорел Булыгин. Я поехал к нему. Дорогой молился и отчасти смирился. Молитва укрепляет и имеет все время неослабляющееся значение. Булыгин не сгорел, но четырнадцать дворов в Хатунке. Вернулся. И не могу очистить себя от зла на детей. Все было во мне. А между мною и ими точно что случилось. Почитал Биернсона — хорошо, очень трагично. Заснул. Теперь 5 часов, иду обедать.
Думал: Маша рассказывала, как Лева с Стаховичем говорили о том, что не надо смешивать благотворительность с хозяйством: в «хозяйстве справедливость, а благотворительность — совсем другое». Так говорят с уверенностью, что это умно и мило, а в сущности, это не что иное, как отмежевание себе произвольной области, в которой вперед уж освобождаешь себя от всякого человеческого чувства, в которой разрешаешь себе быть жестоким. Так говорят про службу, дисциплину, государство. Какое прекрасное художественное произведение возможно на эту тему. И как нужно! И как мне хочется!
Еще думал: большинство добрых чувств, мыслей — не чувства, мысли. А то, что тебя взволнует что-либо доброе: сострадание ли, сознание ли неправды и желание помочь уяснить, и это доброе стремление переходит или в негодование, злобу, осуждение, или в тщеславное перед людьми выставляемое рассуждение — болтовню, и сила его уходит, ничего не сделав. Надо не выпускать, запереть это чувство, как пар, как воду, и пускать его уж только в поршень и на колесо.
Кто-то едет. Помоги, отец!..
Это была коляска с письмами из Тулы. Письмо ругательное из Америки. Зачем я написал это, браня докторов? Невесело мне с старшими детьми. Заботы о деньгах, об устройстве, и самоуверенность и довольство собой полное. Мало во мне любви к ним. И не могу вызвать больше. Ходили гулять на Козловку. Соня жаловалась на сыновей.
[31 августа. ] Теперь 1-й час. Вечером проводил Анненкову. Я поправил заключение . Читал Слепцова.
[3 сентября. ] Пропущено три дня. 1, 2, 3 сентября. Ясная Поляна. 90. Начну с нынешнего 3 сентября. Встал поздно, ходил. Не пью кумыс. Недоброе чувство к Сереже. Не могу заглушить. Надо бы говорить. Да что говорить. Только могу осуждать, а он самодоволен до последней степени. […]
Нынче думал: я сержусь на нравственную тупость детей кроме Маши. Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох.
Я часто говорил себе: если бы не жена, дети, я бы жил святой жизнью, я упрекал их в том, что они мешают мне, а ведь они — моя цель, как говорят мужики. Во многом мы поступаем так: наделаем худого; худое это стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, что я хорош, я бы все сделал хорошо, да вот передо мной помеха. А помеха-то я сам.
Сел писать заключение. Ничего не мог. Оно все разрастается. […]
6 сентября. Ясная Поляна. 90. Все то же. Болит под ложечкой — апатия. Сплю. И дурные мысли. Но держусь и молюсь. Рубил, гулял поздно, снес письмо Соне на Козловку. Теперь 11-й час, иду чай пить. Вчера читал «Emil’a» Руссо. Да, дурно я повел свою семейную жизнь. И грех этот на мне и вокруг меня. Утром позвали на сходку. Я ходил и старался мирить. Похоже, что не напрасно. […]
13 сентября. Ясная Поляна. 90. Встал рано, пошел пилить и рубить с Машей. Очень устал. Дома сел было и тотчас же опять сознал свое бессилие. Грустно, и грустно, что грустно. Если бы помнил: смирение, покорность и любовь, не было бы грустно. Болело под ложечкой все утро. Читал Coleridg’a . Очень симпатичный мне писатель — точный, ясный, но, к сожалению, робкий — англичанин — англиканская церковь и искупление. Не может.
[…] Вчера думал: иду по деревне и смотрю — копают разные мужики. Каждый для себя картофельную яму, и каждый для себя кроет, и многое другое подобное. Сколько лишней работы! Что, если бы все это делать вместе и делить. Казалось бы, не трудно: пчелы и муравьи, бобры делают же это. А очень трудно. Очень далеко до этого человеку, именно потому, что он разумное, сознательное существо. Человеку приходится делать сознательно то, что животные делают бессознательно. Человеку прежде еще общины пчелиной и муравьиной надо сознательно дойти до скота; от которого он еще так далек: не драться (воевать) из-за вздоров, не обжираться, не блудить, а потом уж придется сознательно доходить до пчел и муравьев, как это начинают в общинах. Сначала семья, потом община, потом государство, потом человечество, потом все живое, потом весь мир, как бог. […]
[14 сентября. ] Жив. Все то же тяжелое настроение. Не мог работать. Павел Борискин с Алексеем накладывали черемуху. Я немного подсобил им. Читал Coleridg’a. Много прекрасного. Но у него английская болезнь. Ясно, что он может ясно, свободно и сильно думать; но, как только он касается того, что уважается в Англии, так он, сам не замечая того, делается софистом. Читал девочкам. Ходил после обеда. Приехал Сережа. Вечером было почему-то ужасно грустно.
15 сентября. Ясная Поляна. 90. Все то же. Не брался писать. Утром сказали, что Павел умер. Лег в клети у Алексея на прелую солому и умер. Хорошо. Пасьянс. Хочется писать с эпиграфом: «Я пришел огонь свести на землю и как желал бы, чтоб он возгорелся». Теперь 8 часов, иду наверх.
19 сентября. Ясная Поляна. 90. Нездоровится. Читал. Рубил. Ругин пришел. Я ходил к нему. Как недоступны учению истины мужики. Так полны они своими интересами и привычками. Кто же доступен? Тот, кого привлечет отец — тайна. Читал Precensé . Какое ничтожество! Ничего.
[…] Теперь 12 часов. Хочется по вечерам писать роман longue haleine [119].
[22 сентября. ] Жив. Спал мало, но встал с ясной головой. Ге приехал. После прогулки и разговора с ним и сестрой Таней сел за работу. Поправил сначала декларацию и Балу. И хочу оставить старое заключение. А о том, что церковники не христиане, писать отдельно.
[…] Думал все о тех же двух кладовых и мастерской. Одна горница кладовая, где матерьял, другая — мастерская, куда беру из матерьяльной кладовой и над ней работаю, и третья кладовая, куда складываю отделанную работу. Дорого не набирать слишком много, не по силам матерьялу, который портится, пылится, вянет, но не работается; потом важно то, чтобы работать над тем, что взято в мастерскую, и, наконец, важно не тратить время на любованье работой оконченной, считая это делом. […]
Различие людей в различном их отношении к этим делам и еще важное различие, за которое чаще всего люди осуждают друг друга, это то, что у каждого человека разные вещи взяты на верстак — в рабочую. Обвиняешь, зачем он не делает того, что ему надо бы, а не замечаешь того, что у него взято в мастерскую, на верстак, другое, и он не может оторваться, не кончив. […]
23 сентября. Ясная Поляна. 90. Если буду жив.
[4 октября. ] Могло бы случиться, что угадал. 23-го не помню, но 24 в ночь заболел и проболел сильно с разными переменами до нынешнего дня. 4 октября. Все то же: при страдании, в умирании невозможна деятельность мысли. Еле-еле можешь лениво молиться, проводя мысль по пробитой колее.