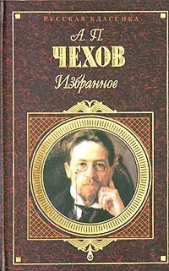Цвет и крест

Цвет и крест читать книгу онлайн
Издание состоит из трех частей:
1) Два наброска начала неосуществленной повести «Цвет и крест». Расположенные в хронологическом порядке очерки и рассказы, созданные Пришвиным в 1917–1918 гг. и составившие основу задуманной Пришвиным в 1918 г. книги.
2) Художественные произведения 1917–1923 гг., непосредственно примыкающие по своему содержанию к предыдущей части, а также ряд повестей и рассказов 1910-х гг., не включавшихся в собрания сочинений советского времени.
3) Малоизвестные ранние публицистические произведения, в том числе никогда не переиздававшиеся газетные публикации периода Первой мировой войны, а также очерки 1922–1924 гг., когда после нескольких лет молчания произошло новое вступление Пришвина в литературу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если для прежнего русского человека страшнее слова, как война, нет. Суд страшнее войны: война ахнет, как муху обухом по затылку, так кончено, а суд, как мухе паутинная сеть; тут разбираются и, как из мухи паук, выпивает судья из жертвы своей каплю за каплей. И как это страшно подумать, что вот я, какой уж там я, Бог его знает, отбитый, отшитый под лопухом в дряни сидел, и этому самому «я», Страшный Судья с золотой цепью велит: «С великим своим мусором и подлостью приступите…»
Больше всего на свете боялся Суда Никола Сидящий, и вот, когда лавка его после побоища опять открывается, то вся очередь уже опять тут с раннего утра дежурит, и все по порядку старшинства без всяких споров и торгов получают: Лихобор побольше, Барбос поменьше, Бегунок, Григорий Великий и Сало-Макало получают требухой и овечьими шейками.
Вспомнишь все это как было, и кажется, прошло сто лет, и рассказываешь своим правнукам, а как сообразишь, то оказывается так быстро время летело, и много всего было, и я летел по разливу на своей лодочке, но, когда спала вода, кто остался? да все те же самые люди.
Николу Сидящего с камня, конечно, сразу разливом сняло, где он был, что делал, как кормился – ничего не могу сказать. Раз, когда подходили казаки, я видел его на бревнах возле биржи, Никола сидел, надвинув козырек в пол-лица; в черных картузах те же, надвинув козырьки в пол-лица, как вороны сидели на бревнах, и другие наши купцы. Все молчали; как нам кажется, и птицы сидят и молчат, а на самом деле все отлично понимают друг друга без слов.
Дожидались и ничего не дождались хорошего. Сколько надписей сменилось на доме Николы Сидящего, в боевое время надписи были мелом, такая-то рота или дивизия, потом и по-настоящему: Женотдел, Утромот – чего-чего не было красным написано и расписано по дому Николы Сидящего… И вот, наконец, появилась белым по синему: «Чайная Нэпо», застучали молотки на базаре – строили, городили ларьки, лавки, навесы, мужик попер опять весь на базар, живот стал опять раздуваться, и Никола Сидящий, уже весь сивый, показался снова на камне, сидит, но не торгует пока и едва ли когда-нибудь осмелится – грузен как-то и даже в новых деньгах соображать плохо умеет.
Торгует в ларьке первый из очереди Николы Сидящего, Лихобор, бывший трактирный слуга, двухмиллиардные налоги не почесав в голове платит, лохматую шапку надел, дочка в шляпе ходит.
Хлестко берет и вышибало Барбос, Щучка надел галифе и стал, как журавль на тонких ногах, Фунтик, кумовья Опилковы, сваты Обрезковы, Тютюшкины, даже мусорный мужичок Бегунок ходит теперь с папиросами. Ну, а уж поп Сашка, трудно сказать, как ему стало: пожалуй, что поп проиграл. Под горячую руку в революцию отказался от Бога, в коммунисты пошел и на выгоцком деле был на заготовке кислой капусты, но не сумел уравновесить себя, был сокращен, исключен, пробовал опять в попы возвратиться – не приняли в попы, и от нечего делать сколотил ларек, торгует. Дело его ничего, только весь он издергался, стонет, как воробей, клюнет и оглянется, клюнет и оглянется, возле лавочки своей минуты не постоит спокойно, раскладывает, перекладывает и то рукой держит, то ногой – смешно. И прозвали попа Сашку за живость его на базаре «Живая Церковь». И так это пошло по базару во всеобщее употребление, и тот леший, когда начинает лезть и давить народ, ему укажут дорогу: «Куда ты лезешь, пошел в Живую Церковь, вон там».
Бывало, купец сам на резиновых шинах летит и поджилки трясутся, и как не трястись, его нажива на большом поле, и уж если пролетишь, то пролетишь по-настоящему, а так на фунт ему какая-нибудь часть копейки достается; теперь на фунт норовят пять нажить, и риску нет никакого, хочешь – торгуй, хочешь – лежи, товар все равно дорожает, чего такому купцу бояться, его сама судьба богатит.
Ну, а если бы и пролетел, куда пролетел: ниже того, где был, не упадешь. Вот почему новый купец отчаянно смел и его судьба богатит.
Зато старый купец Никола Сидящий всего боится, он теперь окончательно сел, и жизнь несется мимо него. Только твердо верит Никола в одно: что всему этому будет конец. Не на что выпить больше Николе, но зато духовного вина у него в изобилии и дар пророческий открылся ему на старости лет. Из далеких глухих мест приезжают к нему залетные люди узнать, как и когда все это кончится. И Никола Сидящий по апокалипсису им точно сроки указывает.
Слушаешь, слушаешь его предсказания, и досада возьмет, он одну книгу прочел и предсказывает, а я миллионы и ничего не могу предсказать, в досаде и скажешь:
– Никола Яковлевич, апокалипсис написан на греческом острове, почему же вы его так-таки прямо на Россию и переводите?
– Приходите, – скажет, – завтра, отвечу.
Назавтра выискал строку и указывает:
– Северные царства. Видите, – скажет, – прямо и сказано, что все сие совершится в северных царствах.
Раздосадуешься и, откуда что возьмется, сам ему наговоришь от своего разума, как непременно будет в России.
– Ну?
– Приходите завтра, отвечу.
Назавтра:
– Ну, как будет, по-моему?
– Будет.
– Ну?
– Только будет сие на малое время.
А потом и пошел, и пошел по своему вечному плану.
Перебьешь:
– Ну, на малое-то время все-таки будет.
– Будет, ну так что: на малое-то время тебе и поп Сашка предскажет, иди в Живую Церковь – спроси…
Так в нашем местечке после революции разделилось все на две церкви: одна у камня Николы Сидящего, мертвая церковь, предсказывает на вечные времена, презирая малое время, в котором жить нам и умереть, а другая, живая церковь, в ларьке попа Сашки интересуется только тем, что на малое время.
Милость мира
С бульвара на бульвар с полупудовой жестянкой керосина шел я и на Тверском приустал, сел на лавочку; как раз против меня была полусгнившая скамейка, на спинке ее разглядел я застарелые, почерневшие вырезанные когда-то слова: «Долой большевиков», на этой скамейке сидят две старухи, одна простая, другая была раньше барыней. Когда мимо старух проходят кто-нибудь мало-мальски хорошо одетый, старуха-барыня привстает и поет своим ужасным старушечьим голосом:
Вы сами, наверно, не раз слышали и запомнили, «Голубка» пристает на весь день.
– Голубка моя… – Кто-то подал.
– Мерси, – сказала барыня.
– Спаси Христос, – сказала простая старуха.
Я схватился за карман, но в одном у меня ничего не было, а пока рылся в другом, остыл (обойдется без меня), и, как всегда бывает, когда откажешь в милостыне, стало на душе пусто. Да, это не взятку дать, там можно научиться давать, а милостыню «творят», это особый дар, тут чуть на волосок сознания – и выходит филантропия, еще волосок – к филантропии, выходит политическая экономия.
Пока я так размышлял, толпа окружила плачущую девочку и участливо ее расспрашивает, почему она так плачет.
– Мальчика выгнали из булочной, – сказала девочка, – просил милостыню.
– Твой братишка?
– Нет, чужой, да у меня тоже есть маленький братишка, ну, как его выгонят.
И вот как утешали девочку и бранили кого-то, оскорбившего святое народное чувство; видно было, что не угас в народе этот дар – творить милостыню. Простая старуха поднялась с той скамейки, где другая поет «Голубка моя», – подала девочке и прошамкала:
– Ах, шевяки, шевяки.
– Большевики?
– А то кто же, батюшка, все шевяки, раньше в церковь, бывало, копеечку несешь, и хорошо: со свечкой простоишь или поставишь, теперь давай все тысячи.
А шевяки все шли и шли по бульвару толпой. Тут были, наверно, больше приказчики, чиновники, чеховские вторые скрипки, выбрались из своего сонного обывательского подполья, шли скоро, энергичнее, бодрее, как заграницей, где давно уже была революция.
«Так вот отчего, – думал я, – была раньше такая пропасть между видимостью нашей и заграничной, мы того не переживали, а когда до нас дошло, стали быстрее. И появились интеллигентные нищие с пеньем и музыкой, совсем как на парижских бульварах».