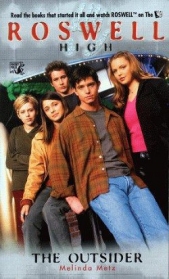Повести и рассказы
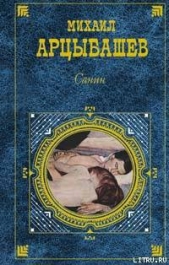
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Повести и рассказы одного из самых популярных беллетристов начала ХХ века – Михаила Арцыбашева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– По… понимаю, – с усилием ответил доктор.
– Мы вот с вами сидим и мучимся мыслью о смерти… природе до нас – ни самомалейшего дела: мы благополучно, ни на какие рассуждения невзирая, помрем, и нас, – как не бывало… очень просто… но мучения наши вечны, вечна их идея. Соломон № 1-й, который жил Бог знает когда, ужасно мучился мыслью о смерти, Соломон № 2-й, который будет жить Бог знает когда, тоже будет ужасно страдать по той же причине… Я в первый раз поцелуюсь с невыразимым наслаждением, а когда у меня уже появится вечная костяная улыбочка, сладость первого поцелуя переживет еще миллион миллионов и больше влюбленных… совершенно с тем же чувством… Но я, кажется, повторяюсь?..
– Да-а…
– Да… ну… так вот: во всей этой пакостной мыслишке одно только заключение, – поскольку это касается не идеи, а факта, нас с вами, значит – это то, что природе «все равно». Понимаете, мы ей не нужны, «идею нас» она возьмет, а что касается нас лично, то ей в высшей степени наплевать… И это, извольте видеть, после всей той муки, которую я пережил… Ах ты стерва!.. Ей – все равно!.. Так мне-то не все равно!.. Плевать мне на то, что ей все равно!.. Совсем не все равно!
Сумасшедший завизжал так громко, так пронзительно, что доктор укоризненно, хотя и совершенно машинально, заметил:
– Ну вот… сейчас и видно…
– Что я сумасшедший?.. Это еще вопрос… да-с, вопрос… вопросик! Я, конечно, пришел в телячье возбуждение… я закричал… и все такое… но ведь удивительного в этом ничего нет: наоборот – удивительно, что люди, постоянно думая о смерти, боясь ее до умопомрачения, единственно на страхе смерти основав всю свою культуру, так прилично относятся к этому вопросу… поговорят чинно, погрустят меланхолично, иной раз всплакнут в носовой платочек и промолчат, займутся каждый своим делом, отнюдь не нарушая общественной тишины… а я… я думаю, что это они – сумасшедшие или просто дураки, если могут перед такой штукой еще приличия соблюдать!..
Доктор очень хорошо вспомнил, как ему хотелось иногда, с несвойственным его летам и солидности ожесточением, начать биться головой о стену или кусать подушку или рвать на себе волосы.
– Этим ничему не поможешь, – угрюмо заметил он. Сумасшедший помолчал.
– Ну да… но ведь, когда больно, хочется кричать, и когда кричишь, то будто легче…
– Да?
– Да…
– Гм… ну пусть…
– Да и все-таки самому перед собой не так стыдно: все-таки я, мол, хоть на то употребил свою свободную душу, эту самую, чтобы кричать караул!.. Не шел, как болван, на убой… и не обманывал себя теми благоглупостями, которыми принято себя утешать в сей беде… Удивительное дело! Человек по натуре лакей… ведь природа… она уж действительно вечна, ей есть смысл думать не о факте, а об его идее, но человек – сам конечнее всякого факта, – туда же пыжится; старается представиться, что и он чрезвычайно дорожит тоже не фактом, а идеей… Можно ведь у нас во всю жизнь ни одного ласкового слова никому не сказать, а людей, человечество любить, и это будет очень великолепно, очень добродетельно в самом лучшем смысле слова… Так и видно: притворяются людишки, хихикают перед своим всемогущим барином, который их, как баранчиков, хлоп-хлоп! – и все у них где-то в глубине души сидит этакая надеждишка, махонькая, с воробьиный носочек, даже меньше, совсем меньше, потому что знает же, уверен всякий из нас, что «оставь надежду навсегда»… сидит эта лакейская надеждишка: ну авось, авось… ну может… ну как-нибудь… и того!.. Слово «помилует» уж и вовсе не произносится, потому уж слишком очевидно…
– Ну и что же, наконец? – с тоской спросил доктор и потер руки, точно ему стало очень холодно.
– И, наконец, то, что возненавидел я эту самую природу горше горького!.. Дни и ночи думал: да найдется же и на тебя какая управа, будь ты проклята!.. И видите, доктор, я довольно еще равнодушно отнесся к природе вне земли, которая… Ибо ведь ни черта в ней я не понимаю… То есть, не то что не понимаю, но чувствовать не могу… Что такое для меня звезда, например? Тьфу, и больше ничего!.. Она сама по себе, я – сам по себе… слишком дальнее, должно быть, расстояние… А вот земная природа, та самая, которой нужно зачем-то лущить нас, как орешки, смакуя нашу идею, то есть идею нас… Все, бывало, думаю: как же так… какое имеет право кто бы то ни был мучить меня, потом другого, а потом миллионного и так далее до бесконечности? Почему-то больше всего меня сладость первого поцелуя угнетала: я, мол, поцеловал раз, один только маленький разик, и уже – тю-тю… а первый поцелуй со всей своей прелестью так и останется, будет вечен, вечно юн и прекрасен… да и все остальное… Ведь обидно же… высшая это обида, такая обида, что хуже и нет!..
Доктор растерянно смотрел на него.
– Но комбинация может повториться, – совсем уже глупо пробормотал он.
– Начхать мне на эту комбинацию! – заорал сумасшедший в положительной злобе.
И крик его был такой громкий, что после него они долго молчали.
– Как вы думаете, доктор, – опять начал сумасшедший тихо и вдумчиво, – если бы вам вдруг доказали, что земля наша умирает… так-таки и умирает со всеми своими потрохами, и не дальше, как этак через триста лет… «унд ганц аккурат»… фью!.. Нам-то, современникам, до этого, конечно же, не дожить… а не ощутили бы вы все-таки некоторой грусти?..
Доктор еще не успел сообразить, как сумасшедший заторопился.
– Очень многие, те, в коих холопство мысли уже в кровь въелось, которые – как былые старые дворовые, уж не могли даже отделить своих интересов от интересов засекавшего их барина – не могут чувствовать самих себя, очень многие скажут, что ощутили бы… и, пожалуй, и вправду… Ну, а я… я бы так, доктор, обрадовался! – с каким-то упоением сдавленно проговорил сумасшедший. – Так обрадовался!.. Ах, ты… подохнешь… значит, не будешь тешиться вечно моей мукой, проклятой этой самой «идеей меня»! Конечно, строго говоря, это никому ничего не докажет… а все-таки… чувство мести хоть удовлетворится… ирония исчезнет… понимаете… вечность эта, коей во мне нет!
– Как же, – вдруг несколько запоздало ответил доктор, – я понимаю.
И он как-то залпом продекламировал:
Сумасшедший быстро остановился и слушал молча с тупыми глазами, а потом залился смехом.
– Вот, вот, вот, вот, вот, вот!.. – как перепел, закричал он. – Не будет этого, не будет этой вечной красоты!.. И знаете, доктор, я… я по профессии инженер, но очень долго занимался астрономией – это в моде, чтобы заниматься не тем, к чему готовился всю жизнь… и вот, когда я уже совсем измучился… совершенно случайно я наткнулся на одну ошибку.
Я, знаете, занялся солнечными пятнами, я изучал их гораздо подробнее, чем на них останавливались до меня другие, и вот я…
В это время солнце зашло за стену противоположного здания, и в комнате сразу померкло. И все предметы как будто отяжелели и прилипли к полу. Сумасшедший стал на вид коренастее и грубее.
– Ну вот… в известной теории прогрессивной увеличиваемости солнечных пятен, по которой солнце должно потухнуть без малого в четыреста миллионов лет, я открыл ошибку… Четыреста миллионов лет!.. Вы можете, доктор, представить себе четыреста миллионов лет?
– Н… не могу, – проговорил доктор, вставая.
– И я не могу, – засмеялся сумасшедший, – и никто этого не может, потому что четыреста миллионов лет – это уже вечность… тогда следует просто предпочесть вечность, как понятие более общее, а оттого и более ясное. С четырьмястами миллионами лет все остается, как в вечности: и равнодушная природа, и вечная красота… Четыреста миллионов лет – это насмешка… И я, знаете, открыл, что никаких четырехсот миллионов лет не будет!
– Как не будет? – почти вскрикнул доктор.
– Да так… они рассчитывали, и очень наивно даже, что раз в такое-то время солнце потухло на столько-то, то… и тут шла простая арифметика. А между тем, известно, что охлаждающийся металл или иное тело держится долго в раскаленном виде только именно до появления первых просветов охлажденности… ибо тут взаимонагреваемость… а уж раз появилось пятно, этакое темненькое пятно на сверкающей самодовольной роже, то уж тут… равновесие нарушено, пятно не только не поддерживает общую теплоту, а даже совсем напротив: холодит… холодит-с, милое пятно!.. Холодит и растет, и чем больше растет, тем больше и холодит… с увеличивающейся в чудовищной прогрессии скоростью. Я думаю, что когда останется этак, примерно, четверть солнца, со всех сторон сжатого темными пятнами, одним громадным пятном, то оно потухнет уже в какой-нибудь год…два… И я принялся за вычисления, я делал сплавы, однородные химически солнцу… и, знаете, милый доктор, что я получил?