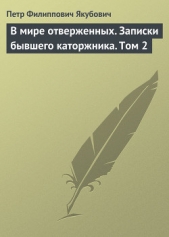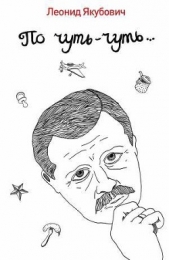В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
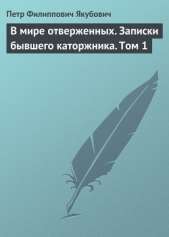
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1 читать книгу онлайн
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так-то так: да он выпросил позволение остаться при больном С., похоронил его, потом еще прожил здесь два дня и уехал с конвойным догонять свою партию.
— Похоронил С.?! С. умер?..
Все как громом были поражены этой вестью… С. был молодой польский поэт, прелестные переводы которого из Надсона и оригинальные стихи нравились даже мне, плохо понимавшему по-польски, и которого за месяц перед тем все мы видели здоровым, сильным, полным бодрости и энергии. Этапное здание сразу потемнело в наших глазах, стало унылым, холодным, неприветным; и когда, шатаясь и бледнея, вошли мы в одну из камер и увидали враждебно высившиеся в вечерних сумерках пустые нары, на нас пахнуло вдруг холодом смерти. Здесь он страдал, здесь умер, почти одинокий, беспомощный, вдали от друзей и родины!.. Правда, любезный унтер, видимо уже каявшийся в том, что сболтнул о смерти С., уверял, будто он умер не в этой, а в соседней камере, куда мы отказались поэтому идти, но утешение было небольшое. В стене нашего помещения была огромная щель в эту страшную камеру, и, помню, я с мучительным любопытством заглядывал в нее, всматриваясь в сумрачную пустоту, где, чудилось мне, бродил дух поэта. И завывавший по временам в трубе ветер казался мне его стонами…
Но еще больней, чем эта весть о совершившемся уже факте, была обострившаяся благодаря ему тревога за товарищей и знакомых, оставшихся позади или бывших впереди нас. Что-то с ними? Не унесла ли беспощадная смерть еще кого-нибудь близкого, дорогого? И смерть, точно, не щадила в тот год самых нежных привязанностей, поражая друзей, невест, братьев…
Настроение было, разумеется, совсем отравлено, и дневка вконец испорчена. Малейшее недомогание кого-нибудь казалось уже предвестником грозной болезни; и в самом деле, на другой же день серьезно захворал один из конвойных солдат, очень симпатичный малый, с которым внезапно сделался сильный жар с бредом; несмотря на все старания наших доморощенных врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить в Бирюсе. Выздоровел он или умер, мы так и не узнали.
Среди моих спутников не было ни одного человека, основательно изучившего медицину, и тем не менее больные арестанты, конвойные солдаты и даже местные жители толпами валили к нам на этап, ни днем, ни ночью не давая покоя. Слава об их уменье лечить гремела по всему пути. И каких только болезней, какого горя не перевидали мы! Какой заразы не приносилось в наше помещение! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики. Приносились грудные младенцы с распухшими шеями, посиневшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшные болячки, гноящиеся раны, один вид которых приводил в ужас и прогонял самый жадный голод… И при отсутствии лекарств и достаточных знаний как больно было видеть все эти устремленные на нас глаза, полные мольбы и наивной веры, и чувствовать свое бессилие что-нибудь сделать, оказать какую-нибудь помощь!
IV
В Иркутской тюрьме, где мне пришлось расстаться с административными политическими ссыльными, я захворал и задержался на несколько месяцев. {11}
В дальнейшем пути, пользуясь, как и прежде, значительными привилегиями сравнительно с прочими арестантами, я благодаря отвычке от одиночества нередко им тяготился и испытывал жестокую скуку. Может быть, благодаря именно этому я обратил внимание на красоту и величие забайкальской природы. Особенно поразил меня только что вскрывшийся Байкал, через который мы переезжали на одном из первых пароходов. Как сейчас вижу это грозно-зеленое, клокочущее и скачущее чудовище. В отдалении, за разъяренными валами, виднеются огромные желтые скалы, и грезится, что они так близко — рукой подать, а между тем до них двадцать — тридцать верст!
Оставшись один, с заботами об одном лишь себе, я Как-то невольно стал делать больше наблюдений и над окружавшим меня миром арестантов, тогда как прежде сплошь и рядом не замечал происходившего вокруг. Прежде отдельные лица как-то стушевывались в моем представлении; я видел перед собой только огромные массы, имевшие в моих глазах одно лицо, один характер и волю. Теперь из этой громады начали выделяться отдельные человечки и останавливать на себе мое любопытство. Нужно, впрочем, сказать, что той сплошной идеализации, какою некогда окружал я арестантов, во мне давно и следа не было: я хорошо знал, что к их рассказам о себе нужно относиться скептически, что они всегда привирают и т. п.
Опишу для образчика некоторые запомнившиеся мне фигуры.
Прежде всего помню одного странного субъекта из греков с пронзительными черными глазами, страшно худого, со множеством штыковых и огнестрельных ран на теле, полученных во время побегов. Он был очень угрюм и несловоохотлив, однако почему-то любил захаживать ко мне, особенно в те минуты, когда никого другого из арестантов у меня не было. Долгое время я думал, что он хочет попросить денег; но денег он ни разу не просил. Однажды я задал ему вопрос, за что идет он в каторгу. Он объяснил мне с самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что в последний раз вырезал с товарищем одну семью. Мне даже жутко стало…
— За что же это? — не удержался я.
— Известно, за деньги, — усмехнулся спокойно мой собеседник.
— Да, но зачем же было резать?.. И притом всех, даже детей?
— Всю породу. В другой раз мы две семьи вырезали. Я невольно содрогнулся и недоумевал, зачем он так говорит.
— А бог? — спросил я. — Разве не боитесь?
— Какой бог? — спросил грек в свою очередь, понизив несколько голос и будто с некоторой грустью.
Где только мы ни бывали. В таких глухих местах, куда и ворон костей не заносит и зверь не заходит. Нигде не видели ни бога, ни дьявола!
— А были ль вы в одиночном заключении? — спросил я еще и, получив отрицательный ответ, пробовал нарисовать собеседнику картину внутренних мучений, овладевающих многими из знаменитых даже разбойников и доводящих их порой до сумасшествия и самоубийства. Он послушал меня минуты две и, ничего не сказав в ответ, вышел под каким-то предлогом.
Вскоре после того я и совсем потерял его из виду: должно быть, он остался где-нибудь в больнице.
Захаживал также ко мне щеголеватый молодчик из лакеев в неизбежном пестреньком галстучке и с утонченными, по его пониманию, манерами. Этот мелко плавал и все вспоминал, какие прекрасные «покупки» делывал он в Петербурге во время публичных казней на Семеновской площади; «покупать» на его языке значило залезать без разрешения в чужой карман. В конце концов я заметил, что он и у меня кое-что «покупал» во время своих визитов…
Зато не могу без улыбки вспомнить милейшего Тюпкина, беглого солдатика, пропадавшего два года без вести, наконец добровольно заявившегося к начальству и шедшего теперь в Читу на суд. Это был добродушнейшим парень лет двадцати шести, плохо развитой физически, Грустный, понурый и всегда меланхоличный. Он ухаживал за мной, парил мне обед и чай и жил в моем «дворянском» помещении. В долгие зимние вечера мы много болтали, и я узнал всю его подноготную. Он был страстный игрок и, когда я давал ему немного денег, сейчас же скрывался и всю ночь напролет играл в штос. Поутру кто-нибудь из арестантов сообщал мне, что мой Тюпкин спустил все до последней копейки.
— Не стоит такой скотине благодеяние оказывать, — философствовал при этом доноситель. — Как будто Другой кто не мог бы вам самоварчик поставить или другое там что сделать? Еще благодарность бы чувствовал… А он что? Как он был духом (арестантское название солдат), так духом и останется до гробовой доски!
Между тем Тюпкин появлялся мрачный, как сама ночь, и в, камере моей начиналась усиленная деятельность: выколачивалась пыль из моих вещей, перекладывались с места на место, без всякой видимой нужды, мешки и ящики; по камере раздавался неумолкаемый топот сапог, аккомпанируемый глубокими-глубокими вздохами.
— Что, Тюпкин, нездоровы вы, что ли? Молчание.
— Или, может быть, потеряли что? Может, проигрались?