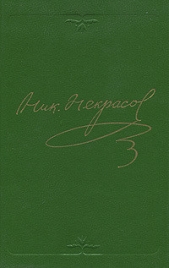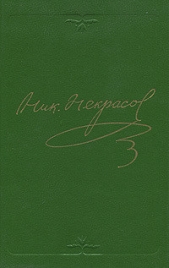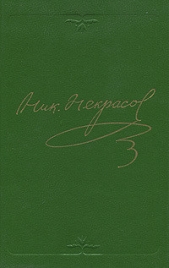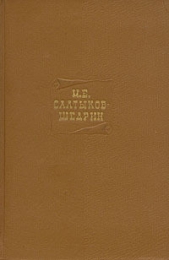Том 7. Художественная проза 1840-1855
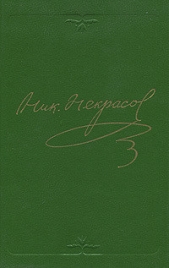
Том 7. Художественная проза 1840-1855 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! — сказал он себе с тайной радостью. — Видно, уже завтра!» — и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.
Бежал он на службу…
В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те, в свою очередь, передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой… К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.
И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительным наклонением головы, — в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, — как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха.
Начальник повторил свой вопрос.
Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, II тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, — в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии», слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся…
Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал медленно, важно, делая ударение на каждом слове:
— А что скажете вы?
Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать…
Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано,
Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык…
Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.