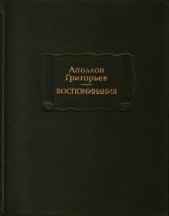Одиссея последнего романтика

Одиссея последнего романтика читать книгу онлайн
В истории русской литературы заметное место принадлежит Аполлону Александровичу Григорьеву (1822–1864) — самобытному поэту, автору повестей и очерков, развивших лермонтовскую традицию, литературному и театральному критику. С именем Григорьева тесно связана деятельность журнала Москвитянин и газеты Московский городской листок, где печатались его программные сочинения. В настоящем издании впервые сделана попытка собрать поэтические, прозаические и мемуарные произведения Григорьева, объединенные московской темой, а также письма и воспоминания о нем.
Некоторые произведения никогда не перепечатывались.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скажи Случевскому, когда воротится, чтобы написал ко мне. Это изо всех молодых — единственная Личность, пусть немножко и холодная, пусть и страшно самолюбивая, но личность.
Крепко пожми руку Серову и, главное, — пиши сам. Отвечать я буду всегда. К тебе я не ленив писать.
Твой всегда Аполлон Григ.
Оренбург. 1801 года. Июня 18
В словах так называемого Писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе божественной иронии, есть слова: страх, его же убояхся, найде на мя, — страшный смысл которых рано или поздно откроется и тебе, искателю истины, как давно уже раскрылся он мне. Да! чего мы боимся — то именно к нам и приходит…
Ничего не боялся я столько (между прочим), как жить в городе без истории, преданий и памятников.
И вот — я (это — один из многих опытов) именно в таком городе. Кругом — глушь и степь, да близость Азии, порядочно отвратительной всякому европейцу. Город — смесь скверной деревни с казармою. Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ничего, ничего…
Может быть, ты один, узнавши меня в последнее время достаточно, понимаешь, что причины более глубокие, чем личные невзгоды и разочарование, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку, что главная вина, causa causalis моего решения была — сознание своей ненужности. В сознании этом много, коли ты хочешь, и гордости. Я дошел до глубокого презрения к литературе Прогресса. Да иначе и быть не могло. Искатель абсолютного, — я столь же мало понимаю рабство перед минутой, рабство демагогическое, как рабство перед деспотами. Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте — чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить — хотя бы даже с Герценом, в чем он не прав. Цинизм мысли, право, дошел уже до крайних пределов. Слова человека очень честного и хорошего, каков М. Достоевский: «какие же глубокие мыслители Киреевский, Хомяков, о. Феодор?» — для человека действительно мыслящего — термометр довольно ужасающий.
«Время» могло сделаться честным, самостоятельным и по тому самому в конце концов первенствующим органом— но для этого нужно было: 1) принять лозунгом абсолютную правду; 2) не заводить срамной дружбы с «Современником»; 3) подать руку славянству (не славянофильству, а славянству); 4) не пускать малафьи Кускова и блевотины Минаева, не печатать немецких. евин вроде драмы Геббеля, по рекомендации хорошего человека, Плещеева; 5) отыскать для политического отдела не Стеньку, то бишь Алексея Разина, а человека нового и свежего, человека с стремлениями к правде и самобытности воззрения, а не к либерализму quand même… [142]; 6) не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически…
Благодарю Бога, что я не предался обольщениям и устоял в своей решимости. Да! честнее гораздо обучать киргизов, чем свирепствовать с тушинцами. Пока не пропер…ся Добролюбовы, не прорыгаются Ерошки, не проблюются Минаевы и не продра…ся Кусковы, — честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литературствовать. Негде! Рано или поздно мысль его или форма его мысли встретят сильный толчок.
Кажется, я Достоевскому если и останусь должен, то очень немного. Во всяком случае, я скоро напишу статью о Толстом, которую я обещал и которая будет без загогулин. Во всяком случае, я вышлю ее на твое имя, с полномочием поступить с ней как знаешь.
Что же касается до продолжения статей о народности в литературе, то прошу тебя, мой милый, передать кому следует, что:
1) я не могу и не хочу отречься от признания глубоким мышления Хомякова, Киреевского и о. Феодора;
2) что я не могу и не хочу отречься даже от права перед именем Погодина выставлять буквы: М. П., т. е. Михаил Петрович, — и от права говорить с уважением о трудах Шевырева, свободно говоря и о его недостатках и смешных сторонах;
3) что, если бы мне случилось в чем-либо признать историческую важность мысли Бурачка, я ее признаю.
Conditio sine qua non [143] — для продолжения моих статей.
Чтобы кончить разом о делах, скажи Ивану Алексеевичу (Шестакову), что ж это штаб бумаг-то моих не выслал. Ведь без этого мне денег не дают — и без истинно-доброго В. В. Григорьева мне пришлось бы сесть на голые…. и выть волком. У меня же, кстати, М. Ф. родила преждевременно и лежит больная. О, треклятая централизация!
Я намерен писать к тебе еженедельно. Письма мои целиком можешь сообщать при свиданиях и Серову, — ибо то с тобою, то с ним хотел бы я издали перебрасываться разными вопросами.
На первый раз вкратце расскажу тебе наше странствие. Тверь я видел два раза и прежде — но никогда не поражала она меня так, как в этот раз, своею мертвенностью. Точно сказочные города, которые заснули, а у нее была история — куда ж она подевалась? Только великолепный по стилю иконостас испакощенного местным усердием собора напоминает еще о бывшей жизни. Щедрин, как все Калиновичи, сначала поярился во имя абстрактного закона, потом, как Калиyович, в сущности добрый, — перекидывает, говорят, в картишки с теми самыми, на кого метал перуны, Унковский впал в апатию! А ведь он — вспомни — «человек он был!»…
Ярославль — красоты неописанной. Всюду Волга и всюду история. Тут хотелось бы мне, — так как Москва мне по личным горестным разочарованиям опротивела, — хотелось бы мне покончить свое земное странствие. Тут, кстати, чудотворная икона Толгской божией матери, которой образом благословила меня покойница мать. Четыре дня прожил я в Ярославле и все не мог находиться по его церквам и монастырям, налюбоваться на его Волгу. Да! вот настоящая столица Поволжья, с даровитым, умным, хоть и ерническим народом, с торговой жизнью.
Между Тверью и Ярославлем заходил я вечером в Корчеву искать отца Феодора. Увы! он уже уехал, как объявил мне сизоносый протопоп, немало, кажется, удивившийся, что я разыскиваю человека, находящегося, по его мнению, под справедливою опалою святейшего (… его мать!) Синода…
Казань мне не понравилась. Татарская грязь с претензиями на Невский проспект.
От Казани Волга становится великолепна, — но я, романтик, жалел о ее разбойниках, — тем более что их грабительство en grand [144] разменялось на мелочь — на грабительство гостиниц, извозчиков и проч., а крик: «Сарынь на кичку» разменялся на бесконечные крики: «На водку!» С Казанью кончаются города и начинаются сочиненные правительственные притоны, вроде Самары, Бузулука и Оренбурга. Да, мой друг, — это притоны в полном смысле.
На первый раз довольно.
Вместе с статьею (хотя прежде оной ты получишь от меня еще письмо) возложу на тебя некоторые комиссии.
Кланяйся Серову, Воскобойникову, Шестакову и проч.
Возьми, если можешь, в руки Крестовского. А Серову я завещал взять в руки Вильбую. Кстати, познакомься с этою даровитою, доброю и погибающею от безвыходного положения и от пияиства скотиною. Скотина весьма милая.
Твой А. Григорьев
М. Ф. тебе кланяется.
Адрес: «Учителю Неплюевского кадетского корпуса, NN в Оренбург».
Оренбург. 1861 г. Сент<ября> 23
Ты можешь быть уверен, что давно уже — со времен юности ни к кому в мире я не писал так много и так часто, как к тебе, мой всепонимающий философ…