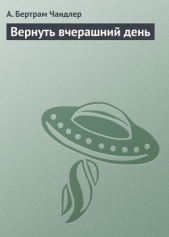Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отношения либералов к Ал. Григорьеву во всей полноте – я не знаю. На Блока в данном случае опираться опасно. Думаю, до объективно-точных фактов все равно не доберешься. Достаточно и того, что мы знаем: «травля» (как называет Блок отношение «либералов» к А. Григорьеву) – была. Эти «узкие» люди предъявляли к «широкому» А. Григорьеву требования, на которые он не мог или не желал ответить; какие требования? Из статьи Блока ясно: требовали, по праву сильных (ведь они были «властители дум»), чтобы Григорьев отрекся от ненавистной широты ради их «узости». Не смел думать о «Шекспире», если есть «сапоги». Словом, обязывали его принять свой «либеральный лубок».
Вот первая, главная ошибка Блока, его историческая – да и не только историческая – слепота. Если не факты – смысл фактов от него ускользает безнадежно.
«Либералы» требовали от А. Григорьева гораздо большего и гораздо более глубокого, нежели всевозможные либерализ-мы: требовали человечества. И не подчинения, а равенства.
Дело вот в чем: быть «человеком» – значит уметь сделать выбор, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве, надо уметь за себя отвечать.
Каждая историческая эпоха требует своего выбора, у каждой есть свое «направо», свое «палево», как бы эти правости и левости ни усложнялись и ни видоизменялись. Но закон выбора и античной жертвенности для «человека» постоянен и неумолим; уклоняющийся (все равно почему) выпадает, как человек, из истории и, если он не гениален, не остается особняком на своей вершине, которую далеко отовсюду видно, – сам делается жертвой. Вертится, как щепка, и, глядь, пропал в водовороте. Судьба Григорьева и многих, многих Григорьевых – вот эта «пассивная жертвенность». Его «не хватило» на выбор, на жертвы активные.
Только глядя назад, в историю, мы можем с известной отчетливостью определять, в чем именно был очередной человеческий выбор того или другого времени. Современники, делающие выбор, делают его часто бессознательно; интуитивно-волевой, – он все же остается именно выбором.
Белинский, Чернышевский, Писарев, все эти «либералы» так называемые, свой человеческий выбор сделали. Тут же прибавляю (еще не судя выбора как выбора), что его сделали, в равной степени, и Погодин, и Катков, и Леонтьев… только не сделали Аполлоны Григорьевы. В конце концов даже Фет, в меру своего «человечества», сделал весьма определенный выбор. И никакой «травли» на него не было, не вышло. Вообще между людьми разного выбора, но равно-людьми возможна только борьба, а «травля» даже не мыслится. И есть победители, есть побежденные, – но «затравленных» нет. Человека, если он не потерял человечества, ни «травить», ни «затравить» нельзя.
Время Белинского («либералов») и Ап. Григорьева было, по-своему, очень сложное время: и глухое – и острое; и бурно-молодое – и беспомощное. Уже напитаны были щедро чувства и мистикой, и поэзией. Уже сиял Пушкин, в котором, как в солнечном свете, живем и мы, – до сих пор. Но… ум и сердце человеческие (не чувства – сердце) едва начали просыпаться к жизни. Возвращаться к жизни, приходить в себя после недавнего оглушения. Кровавый образ 25-го года еще был у всех в памяти.
Но, конечно, совсем по-иному, в иных формах и в иных слоях общества начало возрождаться вечночеловеческое. Вернулась (неужели не могла не вернуться?) идея свободы. Самая беззащитная – она требовала самых ярых защитников; самая гонимая – требовала от защитников напряженной силы и великих жертв. Ей, этой идее, по времени долженствовало расти; за нее и повелась, в сущности, главная борьба. На ней, около нее сосредоточился историко-человеческий выбор.
Можно ли назвать «узкой», при каких бы то ни было обстоятельствах, идею свободы? Она но существу широка и сложна; очень сложно отражалась она и в те годы, о которых мы говорим. Широка по существу… но ее защитники, ее воплотители исторические, – свободники («либералы») очень могли казаться «узкими»; да и были они узкими, поскольку одну идею выдвигали на первый план, поскольку ей они приносили в жертву (исторически необходимую) – все другие.
Вот эта волевая, активная жертвенность (окрашенная в цвет своего времени) и была у «либералов». Она-то и делала их «узкими», по сравнению с Ап. Григорьевым, – но узкими на неисторичный, неподвижный взгляд хотя бы того же Блока.
Легка ли была жертва (пусть вполне бессознательная, интуитивно волевая) тогдашним «либералам»? Возьмем самых значительных, подлинных «властителей дум». Но ведь> о них-то и говорит Блок, они-то и «травили» Григорьева, гнали, пользуясь властью, которая у них была; у Григорьева, по признанию Блока, «власти не было». Но оттого ли и не было, что власть покупается волевой жертвенностью?
Белинский благоговел перед Пушкиным. Искусство, поэзия потрясали неистового Виссариона до боли, пронизывали его страстную душу насквозь. Он и тут не мог чувствовать вполовину, с «недохваткой». Чтобы взглянуть Белинскому в лицо, надо не журнальные статьи его читать (историчные, узко-сдавленные с двух сторон: правительственной цензурой и волевым самоограничением, выбором). Нет, надо прочесть – и в душу по-человечески принять – три тома его писем. Раннюю его переписку с Михаилом Бакуниным в особенности. Вникнуть в их огненные и кровавые споры. Не с кондачка отрывал Белинский свой дух «от высот и счастья созерцанья», от того что на их языке тогда звалось «прекраснодушием»; от соблазнов, не шуточных в то время, – русифицированного гегелианства. Не с легкой беспечностью он, перевертывая понятия, «приял» жизнь, «действительность», говорил он еще но-гегели-апски, но звучало у него это слово по-своему, по-новому; и не диво, что тогдашний Мишель Бакунин просто перестал понимать своего друга. В Белинском как-никак был евангельский купец, продавший и заложивший все Свое имение для покупки одной жемчужины. Вряд ли купец без жалости расставался с имением. Плакал, может быть, а все-таки заложил, отдал, сам захотел, – выбрал. По своему человеческому разумению по своей человеческой любви.
Да, Белинский попутно стоял и на стороне знаменитых писаревских «сапог» против «Шекспира». Только попутно, между прочим; но не мог не стоять, – этого последовательно требовал главный выбор. Вольная жертва отзывается на всех звеньях жизни. Или предположить, что Белинский, этот «грубый и узкий тушинец» («тушинцами» называл Ап. Григорьев «либералов») «выше сапогов», действительно, ничего не видел, ничего не понимал, не любил? Думаю, на такую близорукость уже не способен и враг Белинского – враг, а не случайный невнимательный мимоходец с малыми знаниями.
Или Писарев, автор этих самых «сапогов», мальчишески резкий, «залетающий», – весь в сапогах умещался, во все минуты своей краткой жизни? Или Добролюбов? Или Чернышевский? Нет, пет, никто. У Чернышевского было свое, другое, чем у Белинского, «касанье к мирам иным», и своя жертва: наука. «Я ученый, ученый», – твердит он на сто ладов в потрясающих «Письмах из Сибири» к жене. Эти два тома многолетних обращений к «дорогой Ляличке» тоже следует прочесть, если мы хотим посмотреть каждому «ту-шинцу» в глаза. Не от вилюйского же гроба «тушинец» мгновенно превратился в подвижника. А «Письма из Сибири» воистину мог написать только человек безмерной силы, только подвижник.
Вот слова, до такой степени простые и точные в устах «либералов», что, едва мы от простоты толкования отступим, – мы их исказим, исфальшивим, и сами запутаемся.
Всякое время, решительно всякое, своих –
«Честность» – и есть честный выбор, то есть ответственный, то есть со всеми – из него вытекающими – жертвами. Вплоть до жертвы жизнью, если надо.