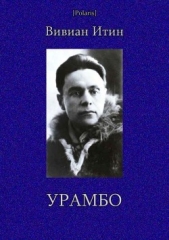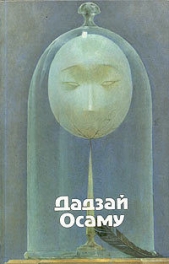Избранные произведения. Том 2

Избранные произведения. Том 2 читать книгу онлайн
Второй том Избранных произведений С. М. Городецкого составляют его прозаические сочинения: романы «Сады Семирамиды» и «Алый смерч», повести: «Сутуловское гнездовье», «Адам», «Черная шаль», рассказы, статьи, литературные портреты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трагизм в том, что Есенин был неправ. Вся его работа была только блистательным началом. Если б долю того, что теперь говорится и пишется о нем, он услышал бы при жизни, может быть, это начало имело бы такое же продолжение. Но бурное его творчество не нашло своего Белинского.
1926
О Валерии Брюсове
Декабрь 905-го. «Башня». «Башней» тогда называлась чердачная квартира Вячеслава Иванова по Таврической, 25, над Таврическим дворцом, где прела в прениях Государственная дума. Судьба первой революции уже была решена. Ее семена уже перегнивали в головах тогдашних поэтов в теорию бунта в себе, уже начинался, как говорилось тогда, мистический анархизм, изобретенный Георгием Чулковым, соборный индивидуализм, выдуманный Модестом Гофманом, ныне благополучно от него выздоровевшим, и многие другие литературные ереси, вскоре давшие свои всходы и порнографии Вербицкой и Арцыбашева.
В декабрьский снежный вечер Владимир Пяст, студент, меня, тоже студента, знавшего из литературы только Блока, тоже студента, привел на «башню».
Там в этот вечер была вся тогдашняя литература. Мансарда была оклеена обоями с лилиями и освещалась свечами. Огромная рыжая Зиновьева-Аннибал, жена Вяч. Иванова, в белом хитоне металась в тесноте. У печки скромно грелся небольшой человек с острым взглядом — Федор Сологуб. Реял большерукий Корней Чуковский. Вдали, у окна, за которым меркли звезды (звезды, свеча — это все было тогда символами, а не простыми предметами), за ломберным столиком заседал синклит собрания. Оттуда несся картавый голос карлика с лицом сектанта — Мережковского, высовывался язык страдающего тиком черноволосого красавца Бердяева, вырезывалась голова Блока, шариком выскакивала круглая фигурка приват-доцента Аничкова, вскакивал череп единственного в этом бедламе марксиста Столпнера, рыжело взбитыми волосами, а может быть уже париком, злое и еще красивое лицо Зинаиды Гиппиус, рядом с дворянски-невозмутимой маской Философова и многих других лиц, масок, профилей и физиономий.
Оттуда читались стихи и произносились речи. Оттуда же встала строгая фигура в черном сюртуке московского гостя и непременного оппонента «башни», лицо с закинутым лбом, накаленными глазами и по-замоскворецки срезанным носом. Я услышал в наступившей тишине картавый и хриплый голос, академически скандирующий эротические стихи. Это был Валерий Брюсов. Я был в тумане восторга и жадно изучал облики всех, кого уже знал по печати. И резко запомнились, как два полюса, как две скалы, стоящих друг против друга, две спорящих фигуры — розовое, качающееся, почти безглазое, почти безликое лицо Вячеслава Иванова и скифски резкое, скульптурно разрешенное лицо Брюсова. Ни слов, ни темы спора не помню, но тема была тогда одна, услужливо раздуваемая Георгием Чулковым, тема о том, что истинная свобода невозможна без абсолютной свободы, что всякий бунт, а в том числе и революция, есть бунт против земных условий существования человека, что поражение революции обусловлено ее только земными устремлениями. Теперь ясно, что эта идеология была позорнейшим актом капитуляции интеллигенции перед победившей реакцией. Тогда все эти бредни казались откровением, указующим путь на ближайшие годы. Остро помню, что, кроме голоса Столпнера, который был голосом вопиющего в пустыне, только материалистически трезвый голос Брюсова вносил диссонанс в общий хор.
В конце этого вечера, под утро, все перебрались в соседнюю комнату, где, усевшись на полу на коврах, читали стихи. Тут я читал стихи в первый раз, и Брюсов был одним из первых людей, сказавших мне слова привета и поощрения, и так сказал он это дружески и веско, что именно ему в «Весы» я отдал свои любимые тогда стихи.
Это первое впечатление от Брюсова покрыло собой все другие аналогичные встречи на «башне» в Питере. Облик его видоизменяется в моей памяти только после московских встреч следующего года, когда я посетил его в его особняке. Непримиримый оппонент, строгий редактор и такой же учитель здесь предстал передо мной в интимной ласковости старшего товарища. Брюсов умел быть братски внимательным и дружески нежным. Помню, кутящая Москва Рябушинских тогда ушибла меня своими контрастами нелепой роскоши и рабской нищеты. К тому же вообще я был очень антиурбанистически настроен. И вот от поэта-урбаниста я услышал первые убедительные для меня доводы о необходимости города. И сказал он их с незабываемой мягкостью к моей тогдашней зверино-лесной настроенности. Зато на известной лекции Брюсова о Гоголе, с которой, шаркая стульями, убегали теперешние его, ушедшего в могилу, хвалители, я был в небольшой кучке молодежи, приветствовавшей Брюсова за его лекцию. Позднее склока между «Золотым руном», в котором я работал, и брюсовскими «Весами» разделила нас, но чувство внутреннего доверия к Брюсову никогда во мне не поколебалось. Его умение крепко стоять в одиночестве и несдавающаяся воля были для меня пленительны даже тогда, когда я с ним не соглашался.
Поэтому не было для меня удивительным, когда, через пятнадцать лет, в двадцатом году, приехав в Москву с горячей бакинской агитработы, я в болоте тогдашних мещанских настроений застал только одного Брюсова по эту сторону Октября. Эта наша встреча была глубока и многозначительна. В пустом холодном зале Дворца искусств из-за огромного стола Брюсов порывисто выбрался мне навстречу, и мы дружески расцеловались. Он был уже седоват, и глаза потухали, но это был подлинный Брюсов, в лучшей и окончательной своей позиции. У нас не было никакого политического разговора. Это была встреча двух людей, из разных омутов выбравшихся на один и тот же берег. И сознание того, что теперь стоишь на твердой почве, было слишком несомненно для того, чтоб об этом нужно было говорить. Сразу заговорили о текущем, о работе, об организации, о студии, о зарождающейся новой литературе. К сожалению, я ехал на работу в Питер, и эта встреча в этот период была, кажется, единственной.
Работа в эти годы слишком заедала, чтоб можно было иметь досуг для дружеских встреч. В 21-м году я встречался с Брюсовым в кафе Союза поэтов, в маленькой комнатке рядом с эстрадой. Поразил он меня тогда своей памятью. Был вечер моих стихов, и после него Брюсов в беседе цитировал на память целые строфы из только что прочитанного. Последний раз я беседовал с Брюсовым на юбилее Гиляровского. Теплые слова, которые он мне сказал тут по поводу моей статьи о нем в «Известиях», напомнили мне интимную сердечность самых первых встреч.
У меня навсегда осталась острая боль от того, что я так мало взял от этого исключительно содержательного человека. В свое время большая близость к нему могла бы предотвратить многие ошибки, которые я разделил с питерскими поэтами.
Старшие уходят. Увы, не стариками. Наше время лишь звено. Еще одно большое звено оборвалось. Не из тех звеньев, которые тянут в могилу прошлого, а из тех редких, которые лучшим мрамором прошлого подпирают стройку будущего.
Брюсов лучше всех поэтов своего поколения умел распознавать этот мрамор культуры, ценный и для наших дней и для будущих, в пестрых каменоломнях пустыни между первой и Октябрьской революциями. Основные силы его личности, творчества, воля и рационализм помогли ему выйти живым из эпохи реакции. Именно эти силы ставили его в разлад с литературными умонастроениями, порожденными реакцией. Его крепостью была позиция формального мастерства. Брюсов не боялся давать расти на своих позициях самым ядовитым цветам той эпохи. Он прошел через все тогдашние отравы: индивидуализм, ницшеанство, урбанизм с бодлеровским уклоном, эротизм, фантастику. Но и через жеманфишизм Уайльда, мистицизм Метерлинка и меланхолию Верлена. Он был энциклопедией влияний, уклонов, шквалов и ветерков, шедших из Европы. Он тщательно поддерживал у нас все формально новое. <…> Он тщательно следил за тем, чтобы его «Весы» были колыбелью новых поэтов. Он сам всю жизнь учился и менялся в основном своем, в особом брюсовском пушкинизме, оставаясь верным самому себе и принципу высокого мастерства. Он стоял особняком даже в символизме — той школе, к которой официально принадлежал. На творчество он не боялся смотреть как на ремесло, как на ежедневную работу над тяжелым материалом слова, с яростью отметая всякие попытки внести внутрь работы художника, — которая есть отливка, формовка, чеканка, — разъедающие примеси. С уничтожающим бешенством он бросался на мистического анархиста Георгия Чулкова, доходя в полемике до травли. Сухая мистика Белого, так же как и вялое дионисийство Вячеслава Иванова, так же как принципиальная романтика Блока или скопческое исступление Мережковского, вызывали в нем организованный отпор, превращая на целые месяцы ближайших друзей во врагов и создавая серии ссор. Он был одинок в этом рационализме, его тогдашнего понять было нельзя из тогдашних дней, и только теперь он может быть понят и оценен за эту свою тогдашнюю позицию. <…>