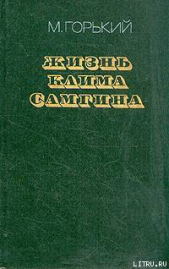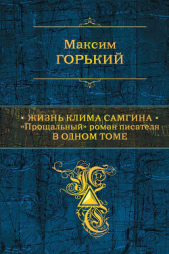Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4

Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 читать книгу онлайн
В двадцать второй том собрания сочинений вошла четвертая часть «Жизни Клима Самгина», не вполне законченная автором и впервые опубликованная после его смерти Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Харламов, — думал Клим Иванович Самгин, и в памяти его звучал» шутливые, иронические слова, которыми Харламов объяснял Елене намерения большевиков: «Все, что может гореть, — горит только тогда, когда нагрето до определенной температуры и лишь при условии достаточного притока кислорода. Исключив эти два условия, мы получим гниение, а не горение. Гниение — это, по Марксу, процесс, который рабочий класс должен превратить в горение, во всемирный пожар. В наши дни рабочие и крестьяне достаточно нагреты, роль кислорода отлично исполняют большевики, и поэтому рабочий народ должен вспыхнуть». — Он — не один таков, Харламов. Шутники, иронисты его типа, родственны большевикам. Он, вероятно, интеллигент в первом поколении, как Тагильский. Как Дронов. Люди без традиций, ничем, кроме школы, не связанные с историей своего отечества. «Случайные люди».
Он даже вспомнил министра Делянова, который не хотел допускать в гимназии «кухаркиных детей», но тут его несколько смутил слишком крутой поворот мысли, и, открывая дверь в квартиру свою, он попытался оправдаться:
«Я ведь встревожен не тем, что меня обгоняют нигилисты двадцатого столетия…»
Но мысль самосильно скользила по как бы наклонной плоскости:
«Рим погубили варвары, воспитанные римлянами».
Затем в десятый раз припомнились стихи Брюсова о «грядущих гуннах» и чьи-то слова по поводу осуждения на каторгу депутатов-социалистов:
«Пятерых — осудили в каторгу, пятьсот поймут этот приговор как вызов им…»
Сидя за столом, поддерживая голову ладонью, Самгин смотрел, как по зеленому сукну стелются голубые струйки дыма папиросы, если дохнуть на них — они исчезают. Его думы ползли одна за другой так же, как этот легкий дымок, и так же быстро исчезали, когда над ними являлись мысли другого порядка.
«Необходимо веретено, которое спрягало бы мысли в одну крепкую, ровную нить… Паук ткет свою паутинку, имея точно определенную цель».
Эти неприятные мысли прятали в себе некий обидный упрек, как бы подсказывая, что жизнь — бессмысленна, и Самгин быстро гасил их, как огонек спички, возвращаясь к думам о случайных людях.
«Гапон, Азеф, Распутин. Какой-то монах Илиодор. Кандидатом в министры внутренних дел называют Протопопова».
Он припомнил все, что говорилось о Протопопове: человек политически неопределенный и даже не очень грамотный, но ловкий, гибкий, бойкий, в его бойкости замечают что-то нездоровое. Провинциал, из мелких симбирских дворян, владелец суконной фабрики, наследовал ее после смерти жандармского генерала Сильверстова, убитого в Париже поляком-революционером Подлевским. В общем — человек мутный, ничтожный.
«Очевидно, страна израсходовала все свои здоровые силы… Партия Милюкова — это все, что оказалось накопленным в девятнадцатом веке и что пытается организовать буржуазию… Вступить в эту партию? Ограничить себя ее программой, подчиниться руководству дельцов, потерять в их среде свое лицо…»
О том, чтоб вступить в партию, он подумал впервые, неожиданно для себя, и это еще более усилило его тревожное настроение.
«Партии разрушаются, как всё вокруг», — решил он, ожесточенно тыкая окурком папиросы в пепельницу.
За последнее время, устраивая смотр мыслям своим, он все чаще встречал среди них такие отрезвляющие, каковы были мысли о веретене, о паутине, тогда он чувствовал, что высота, на которую возвел себя, — шаткая высота и что для того, чтоб удержаться на этой позиции, нужно укрепить ее какими-то действиями. Нужно предъявить людям неоспоримые доказательства своей силы и права своего на их внимание. Но каждый раз, присутствуя на собраниях, он чувствовал, что раздраженные речи, сердитые споры людей изобличают почти в каждом из них такое же кипение тревоги, такой же страшок пред завтрашним днем, такие же намерения развернуть свои силы и отсутствие уверенности в них. Он видел вокруг себя людей, в большинстве беспартийных, видел, что эти люди так же, как он, гордились своей независимостью, подчеркивали свою непричастность политике и широко пользовались правом критиковать ее. Количество таких людей возрастало. Иногда ему казалось, что (таких людей) излишне много, но он легко убеждался, что является наиболее законченным и заметным среди них. Особенно характерно было недавнее собрание в квартире Леонида Андреева, куда его затащил Иван Дронов.
Иван Дронов — всегда немножко выпивший и всегда готовый выпить еще, одетый богато, но неряшливо, растрепанный, пестрый галстук сдвинут влево, рыжие волосы торчат, скуластое лицо содрогается. Настроение его колебалось неестественно резко, за последний год он стал еще более непоседлив, суетлив, но иногда являлся совершенно подавленным, унылым, опустошенным. Клим Иванович привык смотреть на него как на осведомителя, на измерителя тона событий, на аппарат, кот[орый] отмечает температуру текущей действительности, и видел, что Иван теряет эту способность, занятый судорожными попытками перепрыгнуть куда-то через препятствие, невидимое и непонятное для Самгина, и вообще был поглощен исключительно самим собою. В таком настроении он был тем более неприятен, что смотрел исподлобья, как бы укоряя в чем-то.
— С похмелья? — спрашивал Самгин.
— Н-нет, так… Устал.
Но иногда он являлся в состоянии как бы веселого ужаса, — если такой ужас возможен. Многоречивый, посмеиваясь и как-то юмористически ощипывая, одергивая себя, щелкая ногтями по пуговицам жилета, он высыпал новости, точно из мешка.
— Нет, Клим Иванович, ты подумай! — сладостно воет он, вертясь в комнате. — Когда это было, чтоб премьер-министр, у нас, затевал публичную говорильню, под руководством Гакебуша, с участием Леонида Андреева, Короленко, Горького? Гакебушу — сто тысяч, Андрееву — шестьдесят, кроме построчной, Короленке, Горькому — по рублю за строчку. Это тебе — не Европа! Это — мировой аттракцион и — масса смеха!
Затем он рассказал странную историю: у Леонида Андреева несколько дней прятался какой-то нелегальный большевик, он поссорился с хозяином, и Андреев стрелял в него из револьвера, тотчас же и без связи с предыдущим сообщил, что офицера-гвардейцы избили в модном кабаке Распутина и что ходят слухи о заговоре придворной знати, — она решила снять царя Николая с престола и посадить на его место — Михаила.
— Меня бы посадили! — весело сказал он и, пародируя Шаляпина, пропел фальшиво:
— Чему ты рад? — спросил Самгин.
— Да я… не знаю! — сказал Дронов, втискивая себя в кресло, и заговорил несколько спокойней, вдумчивее: — Может — я не радуюсь, а боюсь. Знаешь, человек я пьяный и вообще ни к чорту не годный, и все-таки — не глуп. Это, брат, очень обидно — не дурак, а никуда не годен. Да. Так вот, знаешь, вижу я всяких людей, одни делают политику, другие — подлости, воров развелось до того много, что придут немцы, а им грабить нечего] Немцев — не жаль, им так и надо, им в наказание — Наполеонов счастье. А Россию — жалко.
Он выскочил из кресла, точно мяч, и, наливая вино в стакан, сказал уверенно:
— Здоровенная будет у нас революция, Клим Иванович. Вот — начались рабочие стачки против войны — знаешь? Кушать трудно стало, весь хлеб армии скормили. Ох, все это кончится тем, что устроят европейцы мир промежду себя за наш счет, разрежут Русь на кусочки и начнут глодать с ее костей мясо.
Поговорив еще минуты три на эту тему, он предложил Самгину пойти на совещание по организации министерской газеты. Клим Иванович отказался, его утомляли эти почти ежедневные сборища, на которых люди торопливо и нервозно пытались избыть, погасить свою тревогу. Он видел, что источником тревоги этой служит общее всем им убеждение в своей политической дальнозоркости и предчувствие неизбежной и разрушительной катастрофы. Он отмечал, что по составу своему сборища становятся все пестрее, и его особенно удовлетворял тот факт, что к основному, беспартийному ядру таких собраний вое больше присоединялось членов реформаторских партий и все более часто, открыто выступали люди, настроенные революционно. Самгину казалось, что партии крошились, разрушались, происходит процесс какой-то самосильной организации. Появились меньшевики, которых Дронов называл «год-либерданами», а Харламов давно уже окрестил «скромными учениками немецких ортодоксов предательства», появлялись люди партии конституционалистов-демократов, появлялись даже октябристы — Стратонов, Алябьев, прятался в уголках профессор Платонов, мелькали серые фигуры Мякотяна, Пешехонова, покашливал, притворяясь больным, нововременец Меньшиков, и еще многие именитые фигуры. Царила полная свобода мнений. Провинциальный кадет Адвокатов поставил вопрос: «Есть ли у нас демократия в европейском смысле слова?» и в полчаса доказал, что демократии в России — нет. Его слушали так же внимательно, как всех, чувствовалось, что каждому хочется сказать или услышать нечто твердое, успокаивающее, найти какое-то историческое, объединяющее слово, а для Самгина в метелице речей, слов звучало простое солдатское: