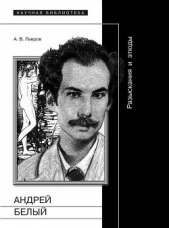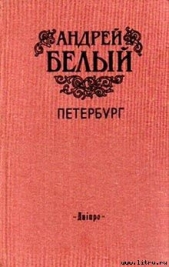Петербург. Стихотворения (Сборник)

Петербург. Стихотворения (Сборник) читать книгу онлайн
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– «Да я верю вам, верю вам», – растерянно замахал он руками.
– «Я, видите ли», – окончательно законфузился он, – «не сомневался нисколько… Мне, право, стыдно… Взволнован я… Мне жена рассказала… Ей записку эту подкинули… Она и прочла – разумеется, распечатала по ошибке», – для чего-то солгал он и покраснел, и потупился…
– «Раз записка мне была распечатана», – тут придрался злорадно сенаторский сын, – «то»… – пожал он плечами, – «то Софья Петровна, конечно, вправе была (это звучало иронией) рассказать вам, как мужу, и самое содержание», – процеживал Николай Аполлонович надменнейшим образом; и – продолжал наступать.
– «Я… я… погорячился», – защищался Лихутин: взгляд его упал на злосчастную фалду, и к фалде он прицепился.
– «Фалду это, не беспокойтесь: я сам пришью…»
Но Николай Аполлонович с чуть-чуть-чуть улыбнувшимся ртом – самосветящийся, стройный – укоризненно продолжал потряхивать ладонями в воздухе:
– «Вы не ведали, что творили».
Темно-васильковые, темно-синие его очи и светом стоящие волосы выражали смутную, неизъяснимую грусть:
– «Идите же: доносите, не верьте!..»
И отвернулся…
Плечи широкие заходили прерывисто… Николай Аполлонович безудержно плакал; вместе с тем: Николай Аполлонович, освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и более: в ту минуту он даже хотел пострадать; так по крайней мере он себя ощутил в ту минуту: ощутил себя отданным на терзанье героем, страдающим всенародно, позорно; тело его в ощущениях было – телом истерзанным; чувства ж были разорваны, как разорвано самое «я»; из разрыва же «я» – ждал он – брызнет слепительный светоч и голос родимый оттуда к нему изречет, как всегда, – изречет в нем самом: для него самого:
– «Ты страдал за меня: я стою над тобою».
Но голоса не было. Светоча тоже не было. Была – тьма. Самое чувство, вероятно, оттого и возникло, что только теперь понял он: от встречи на Невском до этой последней минуты незаслуженно оскорбляли его; привезли насильно сюда, протащили– проволокли в кабинетик: насильно; и – оторвали здесь, в кабинетике, сюртучную фалду; ведь и так непрерывно страдал он – двадцать четыре часа: так за что ж должен был сверх того пережить он и страх перед оскорблением действием? Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: пострадал за себя… Так сказать, расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. Светоча тоже не было. В месте прежнего «я» была тьма. Этого он не выдержал: плечи широкие заходили прерывисто.
Он отвернулся: он плакал.
– «Право же», – раздалось у него за спиной и примиренно, и кротко, – «ошибся, не понял я…»
В голосе этом все же был и оттенок досады: стыда и… досады; и Сергей Сергеевич стоял, закусивши больно губу; уж не жалел ли только что усмиренный Лихутин, что ошибся он, что врага-то, пожалуй, не пришибить: ни вот этим вот кулаком, ни благородством; так точно бешеный бык, раздразненный красным платком, бросается на противника и – налетает на железные перекладины клетки: и стоит, и мычит, и не знает, что делать. На лице подпоручика изображалась борьба неприятных воспоминаний (разумеется, домино) и благороднейших чувств; противник же, подставляя все спину и плача, неприятно так приговаривал:
– «Пользуясь своим физическим превосходством, вы меня… в присутствии дамы проволокли, как… как…»
Благороднейший порыв победил; Сергей Сергеич Лихутин с протянутою рукой пересек кабинетик; но Николай Аполлонович, повернувшись (на реснице его задрожала слезинка), голосом, задушенным от его объявшего бешенства и от – увы! – самолюбия, пришедшего слишком поздно, так отрывисто произнес:
– «Как… как… тютьку…»
Протяни ему руку он, – Сергей Сергеич почел бы себя счастливейшим человеком: на лице бы его заиграло полное благодушие; но порыв благородства, точно так же, как бешенства, тут же у него закупорился в душе; пал в пустую тьму порыв благородства.
– «Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться?.. Что я – не отцеубийца?.. Нет, Сергей Сергеевич, нет: надо было подумать заранее… Вы же вот, как… как тютьку. И – оторвали мне фалду»…
– «Фалду можно подшить!»
И прежде чем Аблеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери:
– «Маврушка!.. Черных ниток!.. Иголку…»
Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала; уличенная, она отскочила, но – поздно; уличенная и красная, как пион, была она поймана; и на них – на обоих – бросала она негодующий, уничтожающий взгляд. Между ними троими лежала сюртучная фалда.
– «А?… Сонечка…»
– «Софья Петровна!..»
– «Я вам помешала?…»
– «Поди-ка… Вот Николай Аполлонович… Знаешь ли… оторвал себе фалду… Ему бы…»
– «Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеич; Софья Петровна – сделайте одолжение…»
– «Ему бы пришить».
Но уже Николай Аполлонович с перекошенным от глупого положения ртом, рукавом утирая предательские ресницы и припадая на все еще хромавшую ногу, появился в комнате с Фудзи-Ямами… в трепаном сюртуке, с одною висящею фалдою; приподымая итальянский свой плащ, поднял голову и, увидевши переплет потолка, для соблюдения приличий перекошенный рот свой обратил на Софью Петровну.
– «А скажите, Софья Петровна, у вас какая-то перемена: на потолке у вас что-то такое… Какая-то неисправность: работали маляры?»
Но Сергей Сергеевич перебил:
– «Это я, Николай Аполлонович: я… чинил потолки…»
Сам же он думал:
– «А? скажите пожалуйста: нынешней ночью – недоповесился; недообъяснился – теперь…»
Николай Аполлонович, уходя, прохромал через зал; упадая с плеча, проволочился за ним черным шлейфом фантастический плащ его.
………………………
Из-за нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за уже последней работы поднимается лысая голова; и – опять упадает. Закипела, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая груда – малиновая, золотая; угольями порассыпались поленья, – и лысая голова поднялась на камин с сардонически усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами; вдруг губы отогнулись испуганно.
Что это?
Во все стороны поразвились красные, кипящие светочи – бьющиеся огни, льющиеся оленьи рога: заветвились и отовсюду вылизываются, – древовидные, золотые сквозные; повыкидались из красного, каминного жерла; кидаются на стены: побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли (вдруг стали, вдруг замерли) все текучие светлости, пламена, темно-васильковые угарные газы и гребни: в опрозраченном свете – там сроилась фигура, приподнятая под убегающий свод и сутуло протянутая; тянутся красные, пятипалые руки – попаляющие прикосновением огней.
Что это?
– Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней, с искрою пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями – ладонями, которые проткнуты, —
– крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указует очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел – в раскаленную пещь… —
– «Он не ведает, что творит…»
Вдруг… – головокружительный треск, шипение, фырканье: светлые светлости, всколебавшися, разорвались на части, разметая страдальческий образ водоворотами искр.
………………………
Через четверть часа он велел заложить лошадей; через сорок минут прошествовал он в карету (это видели мы в предыдущей главе); через час карета стояла среди праздной толпы; и – только ли праздной?…
Что-то случилось тут.
Полувершковое пространство, или стенка кареты, отделяло Аполлона Аполлоновича от мятежной толпы; кони храпели, а в стеклах кареты Аполлон Аполлонович видел все головы: котелки, фуражки и, главное, манджурские шапки; видел пару он на себя устремленных, негодующих глаз; видел он и разорванный рот оборванца: поющий рот (пели). Оборванец, увидевши Аблеухова, что-то грубо кричал: