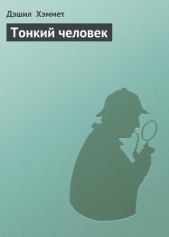Собрание сочинений. Том 1

Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926-1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли рассказы из трех сборников «Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жена его, которую до 1928 года все в городе звали матушкой, а в 1929 году перестали — городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, в котором молился когда-то Иван Грозный, был сделан музеем, — жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Она давно уже не была толстая, но полнота, нездоровая полнота сердечного больного сохранялась в ее огромном теле. Она едва ходила по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник просил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда — оставалась всегда тысяча дел по хозяйству, надо было сварить пищу — еду себе и козам. В магазины жена священника не ходила — небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока или совала в руку леденец какой-нибудь.
На шестке русской печи стоял котел — чугун, как называют такую посуду на Севере. Чугун был с отбитым краем, и край был отбит в первый год замужества. Кипящее пойло для коз выливалось из чугуна через отбитый край и текло на шесток и капало с шестка на пол. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей — обед священника и его жены, — людям было нужно гораздо меньше, чем животным.
Но что-нибудь нужно было и людям.
Дел было мало, но женщина слишком медленно передвигалась по комнате, держась руками за мебель, и к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. И она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хотя и заставлял себя спать, спать. Когда-то его второй сын, приехавший на побывку и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил, волнуясь:
— Папа, почему ты спишь и днем и ночью? Зачем ты так много спишь?
— Дурак ты, — ответил священник, — ведь во сне-то я вижу…
И сын до самой своей смерти не мог забыть этих слов.
Радиовещание переживало тогда свое детство — у любителей скрипели детекторные приемники, и никто не осмеливался зацепить заземление за батарею отопления или телефонный аппарат. Священник только слышал о радиоприемниках, но понимал, что разлетевшиеся по свету его дети не смогут, не сумеют собрать денег даже на радионаушники для него.
Слепой плохо понимал, почему несколько лет назад они должны были выехать из комнаты, в которой жили более тридцати лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым, шамкающим ртом. Жена никогда не рассказывала ему правды: как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты поломанные стулья, старый комод, ящик с фотографиями, дагерротипами, чугуны и горшочки, и несколько книг — остатки когда-то огромной библиотеки, — и сундук, где хранилось последнее: золотой наперсный крест. Слепой ничего не понял, его увели на новую квартиру, и он молчал и молился про себя богу. Кричащих коз отвели на новую квартиру, знакомый плотник устроил коз на новом месте. Одна коза пропала в суматохе — это была четвертая коза, Ира.
Новые жильцы этой квартиры на берегу реки — молодой городской прокурор с франтоватой женой — ждали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна. В комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив, а две комнаты слесаря шли прокурору. Городской прокурор никогда не видел и не увидел ни священника, ни слесаря, на живом месте которых он селился жить.
Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату, он — потому, что был слеп, а она — потому, что слишком много горя пришлось ей видеть на той квартире — гораздо больше, чем радости. Священник никогда не узнал, что его жена, пока могла, пекла пирожки и продавала на базаре и все время писала письма разным своим знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И, случалось, деньги приходили, небольшие деньги, но все же на них можно было купить сена и жмых для коз, внести налоги, заплатить пастуху.
Коз давно надо было продать — они только мешали, но она боялась об этом и думать — ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И она, вспоминая, каким живым, энергичным человеком был ее муж до своей страшной болезни, не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось по-прежнему.
Писала она и детям, которые давно уже выросли, имели собственные семьи. И дети отвечали на ее письма — у всех были свои заботы, свои дети; впрочем, отвечали не все дети.
Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от родителей — немало известных впоследствии писателей и поэтов начали свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем, он просто боялся жизни и подал заявление в газету, когда его стали донимать на службе разговорами о «социальном происхождении». Пользы заявление не принесло, и свое каиново клеймо он проносил до гроба.
Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге, деньгами в семье она не распоряжалась, боялась мужа, но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей, и старая мать отвечала и ей, плача над письмами дочери и утешая ее. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в несколько десятков килограммов винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград всякий год приходит испорченный — из всей посылки только несколько ягодок могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попросить денег.
Вторая дочь была фельдшерицей, и после замужества мизерное свое жалованье вознамерилась она откладывать и посылать слепому отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее намерение, и месяца три сестра приносила свою получку в родной дом. Но после родов она работать не стала и день и ночь хлопотала около своих двойняшек. Скоро выяснилось, что муж ее, профсоюзный работник, — запойный пьяница. Служебная карьера его быстро шла вниз, и через два года он оказался агентом снабжения, да и на этой работе удержаться он долго не мог. Жена его с двумя малыми детьми, оставшись без всяких средств к жизни, снова поступила на работу и билась, как могла, содержа на жалованье медицинской сестры двух маленьких детей и себя. Чем она могла помочь своей старой матери и своему слепому отцу?
Младший сын был не женат. Ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастья в одиночку. От среднего брата осталось наследство — охотничье ружье, почти новенький бескурковый «зауэр», и отец велел матери продать это ружье за девяносто рублей. За двадцать рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки-толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод рабочим. Младший сын посылал деньги домой, но помалу, рублей по пяти, по десяти в месяц, а вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся.
Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть часов утра. Старая мать затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег не было вовсе, но старой женщине удавалось занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продать было уже нечего — все носильные вещи, все скатерти, белье, стулья — все уже было давно продано, променяно на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальные кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в Торгсине еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, и сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфету или булку, и старая мать брала и уносила в свою комнату и совала в сухие, нервные, беспрерывно двигающиеся пальцы слепого своего мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой, опухшие, потрескавшиеся, грязные пальцы своей жены. И старая женщина плакала и целовала старика в голову, и они благодарили друг друга за все хорошее, что они дали друг другу в жизни, и за то, что они делают друг для друга сейчас.
Каждый вечер священник вставал перед иконой и горячо молился и благодарил бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе, и тогда жена сползала с кровати и, охватив его руками за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился.