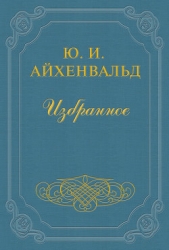Потревоженные тени

Потревоженные тени читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Каналья! — вдруг услыхал я. — Разбойник! Креста на тебе нет! С живого шкуру дерешь!.. Сгною тебя, каналью!.. В чертову баню его! — быстро поворачиваясь к привезенному им с собою чиновнику, добавил Б — в.
Стряпчий между тем становился все меньше и меньше в своем росте, точно он уходил в землю, и вдруг упал на колени, глухо стукнув на ковре.
Сцена была невыносимо тяжелой.
— Простите его, — сказал отец, — в последний раз его простите...
Стряпчий лежал молча.
Б — в, презрительно, брезгливо смотревший на стряпчего, распростертого у его ног, проговорил как бы сам с собою:
— И этот человек называется царским оком! Это царское бельмо... Вставай!.. — И он топнул на него ногой.
Стряпчий, тучный человек с багровым лицом, один не мог уже подняться с полу, и ему помогали подняться другие бывшие тут и ожидавшие своей очереди чиновники. Когда его наконец подняли, он что-то бормотал: «Век не буду... жена... дети», что-то в этом роде.
— Не меня! — закричал Б — в. — Вот предводителя благодари: я для него тебя простил. Но попадись ты, каналья, мне еще раз, сгною тебя в чертовой бане (в уголовной палате [56], под судом).
Эта сцена вот перед глазами у меня, как будто вчера это было. И вытянутое, зеленое, искаженное злобой лицо губернатора, и опускающийся, точно уходивший в землю, лысый стряпчий под этими неподвижными, злобно-холодными взглядами губернатора. Умей я рисовать, я нарисовал бы все это в мельчайших подробностях...
В этот день за обедом, когда чиновников никого уже не было, Б — в сам вспомнил или кто спросил его об этой сцене со стряпчим, но только он горячо начал говорить о том, что это все за народ.
— Ведь они знать ничего не хотят! Они дразнят только народ. Они ведь не знают, что там, в Петербурге, шапки у всех дрожат...
Я помню, меня заинтересовало, почему это «в Петербурге шапки у всех дрожат», и я тихо спросил об этом у отца, рядом с которым я сидел.
— Время какое... — ответил он.
— Да, уж время! — подтвердил Б — в. — А они в это-то время что затеяли! Я только, и делаю, что улаживаю то там, то тут, а они затеяли чуть не целыми десятками в Сибирь в ссылку приговаривать. Ведь этак они восстание вызовут, стрелять придется еще потом...
— Это все по емельяновскому делу? — спросила его матушка.
— Да-с, по емельяновскому: ведь у него и тут и в вашем уезде есть имения, — отвечал ей Б — в.
Что это за дело было такое, я не помню. Но Емельянова, седого совсем старика, я видал, знал: он несколько раз приезжал к нам, и этот разговор о нем я запомнил по другому случаю, о котором я, собственно, и буду рассказывать и который разыгрался самое большее недели через две после того, как у нас был Б — в.
III
Стояла жаркая погода, какая бывает у нас обыкновенно в конце июля и в начале августа, в самую уборку хлеба. Отец был в поле, вернулся, и мы только что сели обедать в столовой, половина окон которой — те, что выходили на солнечную сторону, — были наглухо закрыты ставнями, а другие, выходившие на тенистую сторону, были настежь отворены, отчего в комнате было полутемно, но зато прохладно.
Вдруг послышался колокольчик, бубенчики, и вслед за тем кто-то на тройке в телеге промелькнул перед окнами, и колокольчик сразу точно оборвался: очевидно, подъехали и остановились у крыльца. Нам всем показалось, что на тройке в телеге сидел кто-то в военной фуражке. Матушка с отцом в недоумении переглянулись: кто бы это мог быть?
Вошел лакей, подававший нам обедать, и таинственно как-то проговорил:
— Жандарм с пакетом от губернатора...
Это известие было уже совсем неожиданное и притом видимо смутившее отца. Он сейчас же встал и вышел в переднюю, а матушка проводила его глазами, потом посмотрела на нас и как-то странно замолчала и задумалась.
Я запомнил, что, хотя не понимал тогдашнего духа времени, не понимал, что такое жандарм, на меня это смущение отца и матушки, вообще вся эта сцена произвели неприятное, тягостное впечатление.
Отец скоро вернулся с пакетом с красной печатью в одной руке — пакет был толстый — и с запиской в другой... Эту записку он молча передал матушке и принялся есть свой простывший суп. Но уже по лицу его, вообще по спокойному его виду, я мог понять, что тревожного ничего не было.
Матушка прочитала письмо и, возвращая его отцу, спросила:
— Когда же ты поедешь?
— Сейчас. Вот пообедаю и поеду. Я уж лошадей велел запрягать.
— Куда? — спросил я.
— В другой уезд, верст за сорок, к Емельянову, — ответил отец.
— Когда же думаешь назад? — спросила его матушка.
— Сегодня же ночью, вероятно...
— Возьми меня с собою, — стал просить я.
— Тебя? Что ж тебе там делать?
— Возьми меня.
Матушка не возражала, сделав замечание только: «А если придется ночевать?» Отец тоже не возражал; я повторил опять просьбу взять меня с собою, и он как-то неожиданно, в рассеянности и в задумчивости, проговорил:
— Ну, хорошо...
Мы скоро пообедали, и я побежал собираться.
Странным поездом двинулись мы в путь. Когда я вышел на крыльцо, я увидал следующее. У самого крыльца стоял наш открытый тарантас, запряженный тройкой, но почему-то без колокольчика. На козлы, чтобы сесть рядом с кучером, карабкался какой-то неизвестный мне мужик с лицом солдата, в простом сером армяке, который у него при этом распахнулся и оттуда был виден синий мундир. На голове у этого загадочного мужика была надета мужицкая шапка гречневиком. Позади тарантаса были еще три тройки в телегах, и в каждой по четыре мужика, но уже действительных, настоящих. Некоторых из них я даже знал в лицо.
— Понятые, вы поезжайте вперед, — сказал отец, — и, не доезжая до Ильинки так верст двух, дождитесь меня. Я тут недалеко заеду еще и догоню вас потом.
Тройки одна за другой тронулись и поехали полной рысью, а мы с отцом начали усаживаться в тарантас. Матушка, сестра, гувернантка провожали нас.
— Да, конечно... Там нечего делать. Я их отправлю, и сейчас же домой, — отвечая матушке на ее вопрос, сказал отец уж из тарантаса и велел кучеру ехать в Семеновку, сельцо верстах в трех от нас. — Надо взять там Василия Николаевича, — добавил он.
Василий Николаевич был письмоводитель отца и, когда не было никакого дела, жил в Семеновке у своего тестя, мелкопоместного помещика.
У отца — его «собственная» — была отличная рысистая тройка, молодец-кучер, тоже «собственный», то есть с которым только он ездил (у матушки, каретный, был другой), и мы как птицы полетели.
Но куда, то есть, собственно, зачем, мы ехали, что нам там предстояло делать, что мы там увидим, — ничего я этого не знал. Отец был и серьезен и в то же время весел. Шутя спрашивал жандарма, удобно ли ему в мужицком армяке и шапке, и проч. Меня томила неизвестность, подмывало любопытство, хотелось спросить, узнать, зачем мы едем, что там будет такое, но я не спрашивал, удерживался, и, кажется, из опасения, что как бы отец не раздумал и не оставил бы меня дома.
В Семеновке мы очень скоро управились. Василий Николаевич был дома, сейчас собрался, сел с нами в тарантас, захватив и свой вечный, громадный, зеленый, толстый портфель, наполненный бумагой, баночками с чернилами, транспарантами, карандашами и проч.
Когда он сел и мы опять поехали, отец вынул из бокового кармана пакет с большой красной печатью, полученный им от губернатора, вынул оттуда бумагу и дал ему прочитать ее. Отец потом подал ему письмо, которое он давал за обедом прочитать матушке. Василий Николаевич и его прочитал.
— Надо это все сделать аккуратно... без шуму, — сказал отец и кивнул головой на жандарма, сидевшего на козлах.
— Ах, это он и есть? — улыбаясь, проговорил Василий Николаевич и с любопытством посмотрел на него.
— Я нарочно велел ему переодеться, чтоб не было заметно. А то увидят, смекнут, уберут их, и мы ничего и никого не увидим... Понятых, двенадцать человек, я уж отправил вперед. Они нас будут дожидать версты две не доезжая до Ильинки.