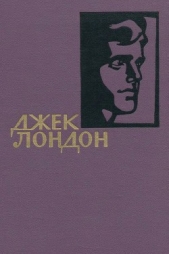Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854
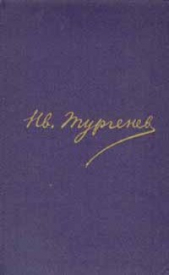
Том 4. Повести и рассказы, статьи 1844-1854 читать книгу онлайн
В четвертый том вошли повести и рассказы, статьи и рецензии и незавершенное произведение И.С. ТургеневаПовести и рассказы 1844-1854гг.: "Андрей Колосов", "Бретёр", "Три портрета", "Жид", "Петушков", "Дневник лишнего человека", "Три встречи", "Муму", "Постоялый двор", "Два приятеля", "Затишье".Статьи и рецензии 1850-1854: " Несколько слов об опере Мейербера «Пророк», "Поэтические эскизы. Альманах стихотворений, изданный Я.М. Позняковым и А.П. Пономаревым", "Племянница. Роман, соч. Евгении Тур. 4 части, Москва, 1851", "Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста»,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из всего сказанного нами следует, что не в одних беспрерывных повторениях упрекаем мы г-на Островского: мы упрекаем его в излишнем раздроблении характеров, — в раздроблении, доходящем до того, что каждая отдельная частичка исчезает, наконец, для читателя, как слишком мелкие предметы исчезают для зрения. Г-н Островский в наших глазах, так сказать, забирается в душу каждого из лиц, им созданных; но мы позволим себе заметить ему, что эта бесспорно полезная операция должна быть свершена автором предварительно. Лица его должны находиться уже в полной его власти, когда он выводит их перед нами. Это — психология, скажут нам; пожалуй, но психолог должен исчезнуть в художнике, как исчезает от глаз скелет под живым и теплым телом, которому он служит прочной, но невидимой опорой. Это, между прочим, не худо заметить и некоторым нашим критикам, которые считают долгом начать каждую свою статью ab ovo [84], как будто и в критике его убеждения, его коренные правила не должны перейти в плоть и кровь, и он всякий раз обязан выставлять их напоказ перед собой и читателями, как какие-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться с дороги * . Притом эта мелочная копотливая манера неуместна особенно в драматическом произведении, где она замедляет и охлаждает ход действия и где нам дороже всего те простые, внезапные движения, в которых звучно высказывается человеческая душа, — подобные, например, хоть этой черте, взятой нами у самого г-на Островского: Марья Андреевна собирается сказать Меричу свое горе — предложение ненавистного г-на Беневоленского. Мерич прерывает ее замечанием, что у ней хорошие глазки, что так и хочется поцеловать ее. Марья Андреевна, вся судьба которой решается в это мгновение, восклицает, наконец:
«Да ты выслушай * , ради бога!
Мерич. Хорошо, хорошо; слушаю.
Марья Андреевна. Не успела я еще опомниться от твоего поцелуя (закрывает глаза руками; Мерич ее целует),приехал этот Беневоленский, он груб, необразован, просто ужас.
Мерич. Мери, ведь это скучная материя».
В этих немногих словах, в невольном движении Маши, в поступке Мерича открывается нам более глубокий взгляд в сущность характеров и отношений Маши и Мерича, чем в самых тщательно выделанных, так называемых психологических анализах. Весь третий акт * , из которого мы взяли вышеприведенные слова, прекрасен с начала до конца, исполнен юмора и меньше всех других отзывается трудом, меньше других пахнет лампой Демосфена * . (Четвертый акт, напротив, весьма слаб, и трудно читать его без какого-то нетерпения скуки; в нем как будто соединились все недостатки г-на Островского.) Во втором акте все сцены хороши: разговор Марьи Андреевны с Хорьковым, в котором она, не подозревая, что Хорьков в нее влюблен, раздирает его сердце полупризнанием своей любви к Меричу; следующий затем разговор между Хорьковым и Милашиным, где этот молодой человек является в полном блеске; наконец, появление г. Беневоленского, его объяснения с Анной Петровной, его внезапный вопрос Марье Андреевне, в которую он уже успел влюбиться, — какие она конфекты любит? — всё это отлично. Но пора нам поговорить о Марье Андреевне. Прежде всего мы должны сказать, что замечания, сделанные нами выше таланту г. Островского, не относятся к характеру Марьи Андреевны. Создавая образ этой молодой девушки, он менее предавался своей обычной наклонности к мелочному анализу, он явно искал больших линий, простора; Марья Андреевна почти ничего не повторяет, и между тем характер ее удался менее всех: видно, наши недостатки растут на одной почве с нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадив другие. Марья Андреевна — лицо решительно неживое: она вся сочинена; впечатление, оставляемое ею, неясно, и, скажем более, сам автор это чувствует. Доказательством справедливости нашей догадки служат, между прочим, слова, вложенные г. Островским в уста бедной невесты, с явным намерением пояснить ими ее характер. Когда, например, Марья Андреевна, в пятом акте, уже решившись выйти за Беневоленского, говорит: «Страстность души, которая чуть не погубила меня, теперь мне нужна: для нее будет благородное употребление» * (она собирается исправить мужа), мы, переменив местоимение из первого лица в третье, очень хорошо понимаем, что автор так о ней думает и, желает, чтобы и мы были такого же мнения о ней; но мы никак не можем верить, что Марья Андреевна сама могла действительно произнести эти слова. Это — уловка Скриба, особенно в его либреттах * , заставлять людей говорить не то, что́ им следовало бы сказать, а то, что́ о них думает в это время зритель; и если г. Островский, при всем своем, повторяем, несомненном стремлении к истине, решился прибегнуть к той же манере, значит, он чувствовал сам неясность созданного им характера и необходимость комментариев. Эта неясность, это колыхание сопровождают Марью Андреевну в продолжение всей комедии. Необходимости, жизненной необходимости в ее образе нет. Автор добросовестно и старательно гоняется за ней — за этой неуловимой чертою жизни, и не достигает ее до конца. Из математики нам известно, что переломанная на самые мелкие углы прямая линия может только бесконечно приблизиться к линии круга, но никогда не сольется с ней. Точно так же и ум, труд, наблюдение проводят только, если можно так выразиться, прямые линии. Одной поэзии дана та «волнистая линия красоты», о которой говорил Гогарт. *
Особенно неудачны, между прочим, небольшие, тоже объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая сцена Марьи Андреевны. Например: после первого объяснения в любви, в котором она и Мерич что-то немножко круто начали говорить друг другу ты, — она, оставшись одна, произносит следующие слова: «Он ушел… Хорошо ли я сделала? Мне и стыдно и весело. Что, если это только шалость с его стороны? Боже мой, как мне совестно за себя! А если он любит в самом деле? Он всегда такой скучный, печальный! Ах, как бы мне хотелось знать, любит ли он меня!» * и т. д. От этой небольшой тирады так и веет условной, театральной атмосферой. Нас не удивляет, что Марья Андреевна влюбилась в Мерича, этого совершенно недостойного ее молодого человека: мы знаем, что в известные лета девушки любят не в силу каких-нибудь особенных заслуг в избранном предмете, но просто потому, что им пришла пора любить; но вся любовь ее завязывается и разыгрывается как-то натянуто литературно. Она любит потому, что автору нужно заставить ее полюбить, чтобы на чувстве ее к Меричу завязать интерес пьесы, потом ввести обычную борьбу, которую разрешает, наконец, обычная жертва; но читателю не верится ни в эту любовь, ни в эту борьбу, — в самое существование Марьи Андреевны ему плохо верится; а жертва ее не возбуждает в нем ни сожаления, ни ропота: жертва ее проходит неоцененной, едва ли замеченной… Окончательное же примирение остается совершенно непонятным. Мы даже готовы согласиться, что читатель, искусившийся в деле чтения, читатель, проследивший большое количество тех призрачных женских лиц, которыми так богата наша словесность, их так называемые страдания и радости, — «проследит», пожалуй, и это лицо, и даже с участием; но на свежего человека оно едва ли произведет глубокое впечатление, и кроме двух-трех горячих слов, кроме последнего прощанья Марьи Андреевны с Меричем, где тот, отказавшись от ее руки и добившись от нее, что она его прощает, объявляет, что все прекрасно, — кроме этой сцены, говорим, да еще последующей с Милашиным, где Маша, с трудом удерживая рыдания, играет с ним в дураки, едва ли от чего-нибудь забьется сердце у этого свежего человека. Но особенно напряженным и, говоря техническим слогом, «резонерским, сделанным», покажется ему конец, в котором Марья Андреевна внезапно взглядывает на самое себя с утилитарной точки зрения, собираясь заняться исправлением г. Беневоленского. Словом, как барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезает перед лицом какой-нибудь дочери городничего в гоголевском «Ревизоре»; как девушка, она то возбуждает наше сочувствие, то отталкивает нас, как, например, в той сцене, где она сама требует от Мерича, чтобы тот женился на ней; грации в ней тоже нет, и проходит она через нашу душу, как гость, которого мы не поняли, — может быть, потому, что нечего было в нем понимать. Видно, что г. Островский хотел создать в Марье Андреевне лицо значительное… но наше уважение к его таланту заставляет нас признаться, что образ бедной невесты не удался.