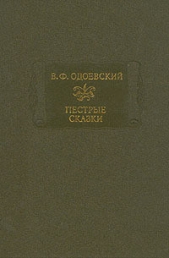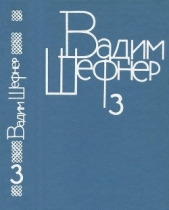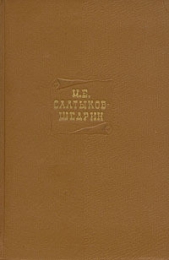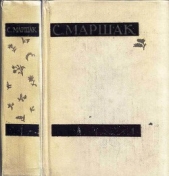Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма
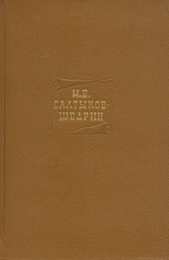
Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
«Сказки» — одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг Салтыкова. За небольшим исключением, они создавались в течение четырех лет (1883–1886), на завершающем этапе творческого пути писателя. Публикация «Пестрых писем» началась в ноябре 1884 года. Этот цикл был первым произведением Салтыкова после прекращения, на апрельском номере, журнала «Отечественные записки», которое обрекло писателя на долгое, непривычное для него, полугодовое молчание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А между тем это убеждение несомненно существовало и даже некогда составляло гордость и радование жизни. И как нарочно, в те скорбные минуты, когда прошлое уже затмилось настоящим, когда оно поругано и побито, памятливая совесть всего охотнее возвращается к этому прошлому. Припоминаются былые речи, старые образы… все припоминается, все.
Ходит пестрый человек взад и вперед по комнате до усталости, до изнеможения. Звонок. Пришел «посидеть» знакомец из «новых». Пришел, может быть, для того, чтобы испытать сердце человеческое и потом сфискалить.
— Ну, вот, и вы с нами, — говорит он, — не правда ли, так-то лучше?
— Да, да, и я… конечно, конечно… Надо же.
— А читали вы записку, которую подал L.?
— Да, да, читал… прекрасно, прекрасно.
— И так тонко дано почувствовать! И в то же время горячо, с огоньком!
— Да, тонко и, в то же время, действительно… но, впрочем, нам-то что ж!
— Как что ж? Мы ведь тоже в этой колеснице значимся! Дело, стало быть, общее.
И так далее.
Посидит знакомец, выпьет чашку чая и уйдет. А новообращенный сядет к рабочему столу и начнет подготовлять работу к завтрашнему дню. Из каждой строки этой работы явственно сочится одно слово: искоренить. Прежде он был сторонником и ревнителем женского образования, теперь — придумывает подвохи в ущерб ему; прежде он видел в свободе величайшее благо человеческих обществ, теперь — он называет ее не иначе как разнузданностью; прежде он признавал суд общественной совести, как наилучшее мерило для оценки человеческих деяний, теперь — он утверждает, что в основе этого суда лежит одна анархия. * И он излагает это отчетисто, ясно, спеша поспеть к сроку, ибо знает, что завтра же все эти новые измышления должны быть пущены в ход. Одно только умеряет его стыд — это нелепость написанного и надежда, что сама жизнь отвернется от нее.
Каким путем люди приходят к такой раздвоенности мысли и чувства — все в этом вопросе смутно и спутанно. Едва ли, впрочем, тут не играет значительной роли недостаток материальных средств и происходящая от того зависимость. Многие не придают этому факту никакого значения, и даже не без презрения отзываются о нем. И, в большинстве случаев, это презрение идет от тех, которые исподлобья пускают жадные взоры на виднеющийся вдали пирог. Но не нужно забывать, что бедность и недовольство выброшенным судьбою куском есть факт до того бесспорный, что ради него возникают не только частные преступления, но общественная рознь, междоусобия и всевозможные неурядицы. А еще менее надо забывать, что большинство людей состоит не из героев, а из простых смертных. Там, где герой возвышается до самоотвержения, простой смертный ограничивается одним сочувствием, далее которого его экспансивная сила не идет. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и надо уж и то ставить ему в заслугу, ежели зрелище самопожертвованья умиляет и согревает его сердце любовью к ближнему.
Затем, в деле подневольной апостазии * имеют громадное значение жизненные ошибки. Служение убеждению не терпит суеты. Оно строго до неумолимости и в своей логичности не пугается частных крайних выводов. Раз допущенное уклонение уводит человека все дальше и дальше от предначертанной линии, и возврат к исходному пункту делается не только трудным, но и немыслимым.
Все, которые вышли вместе, уже далеко, да и возвратный путь исковеркан и завален наносным хламом до того, что нужны нечеловеческие усилия, чтоб пробраться сквозь трущобу. Приходится или оставаться на том месте, где застало самосознание, и горько сетовать на свое легкомыслие, или идти далее, все уклоняясь и уклоняясь, и совсем отдаться в жертву мамоне.
Наконец есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всех сторон паника. Законы, порождающие панику и управляющие ею, до сих пор неизвестны. Она представляется нам в форме обезумевшего пса, случайно сорвавшегося с цепи. Она бежит вперед, брызжа бешеною слюною и изъязвляя всех, кто стоит на ее пути. Происходит общий переполох; со дна общества подымаются чудовища. Парение мысли, идеалы будущего, чистота души — все погибает в этом адском водовороте, уступая место бешеному лаю и наглому смеху остервенившихся чудовищ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголтелости и не сделаться хотя невольным ее сообщником. Целая масса сложивших оружие идет за колесницей победителей, осужденная на рабство. И если бы история не указывала на просвет из этой кромешной тьмы, то мир давно был бы отдан в жертву безнадежности и отчаянию.
Разумеется, я указал здесь лишь на самые характеристические черты процесса превращения. Существует множество других, второстепенных и третьестепенных, которые присущи каждому отдельному индивидууму. Но главным двигателем все-таки является отсутствие героизма.
Спрашивается: что такое героизм?
Позволяю себе думать, что героизм представляет собой явление вполне бесспорное лишь в применении к открытиям и изобретениям, которые обнажают тайны природы и делают их доступными для человечества. Люди, совершающие полярные экспедиции, проникающие в неизведанные страны, люди, проливающие свет и благосостояние в темные народные массы, — вот герои, которые, так сказать, пишут историю человечества и производят в его судьбах действительные повороты. Что же касается до героизма политического, то это — явление преходящее, вызываемое данной минутой. И, быть может, недалеко время, когда в нем не будет больше надобности. Исчезнут истязания, умолкнут вопли — и тогда поистине наступит «время, всех освещающее» * .
Третья категория — это plebs, или, как говорят в сельском хозяйстве, живой рабочий инвентарь. Это — материал, который всякое новое веяние находит готовым. Люди эти всем восхищаются, особливо стилем бумаг и остротою пера. «Вот так загнул! — восклицают они в восторге, — поди расхлебай!» Сплошной массой наполняя канцелярии, они до того сродняются с атмосферой «своего места», что перестают даже различать, чем там пахнет.
Грибоедов воспроизвел этот тип в своем бессмертном Молчалине. Это человек, в пеленках познавший натиск судьбы и потому готовый отдать себя в рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному богу, и пустому идолу, не имея ни способности, ни навыка проникать в сущность вещей. Одно качество, которое до известной степени смягчает его суетливую готовность, — это отсутствие злостности. Все в деятельности этих людей запечатлено неразумением и твердой решимостью удержать за собой тот нищенский кусок, который им выбросила судьба. Это неразумение, эта прирожденная, несознанная приниженность спасает их от проклятий.
Тем не менее внешние признаки, в которых выражается то или другое веяние, они отличают прекрасно. Знают, что Петр Иваныч — не то, что Федор Семеныч, что каждый из них «загибает» по-своему и что за каждым следует своя свита. Понимают, что когда Петр Иваныч в ходу, то Федора Семеныча с его свитой следует избегать, и наоборот. Умеют опускать очи при встрече, делать вид, что не узнают или не замечают, охотно прислушиваются к слухам и в особенности выказывают тревожное расположение духа перед праздниками, когда Петры Иванычи сменяют Федоров Семенычей, а Федоры Семенычи — Петров Иванычей. Не то, чтоб они видели впереди какую-нибудь угрозу — «без нас не обойдутся!» — говорят они с гордостью, — но все-таки надо хотя накануне почиститься и переменить белье, чтобы хоть по наружности предстать в новом образе.
Деятельной роли они не играют. Встают с места, когда входит начальство, и садятся, когда оно уходит. Ежели начальник — бель-ом, то они радуются; ежели начальник маленький и мозглявый, то и тут не печалятся, а говорят: «Птичка невеличка, да ноготок востёр». Все начальники хороши, и всё идет прекрасно в наилучшем из миров. Нередко им приходится совершать дела прямо вредные; но так как сущность вещей закрыта для них, то они всю свою деятельность вообще прикрывают словом: «мероприятие», и затем никаких душевных тревог уже не ощущают.