Том 12. В среде умеренности и аккуратности
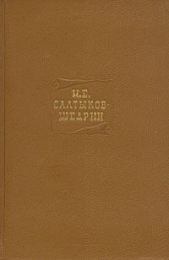
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На мое счастие, Глумов прервал течение моих мыслей и не дал совсем уже созревшему порыву самоотвержения вылететь из груди.
— Ну, вот, теперь у тебя восторженность какая-то в лице явилась, — сказал он, — опять, должно быть, художественную картину воспроизвел!
— Ах, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка — выражение лица подглядывать!
— Зачем подглядывать — прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричал бы: «Человек! шампанского!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты об «червонных валетах» имеешь понятие?
— Знаю.
— Так вот, по-моему, отличнейший наглядный пример. Полянский, Ландау — это, положим, загадочные люди, а в «червонных валетах» даже загадочности никакой нет. Все известно: и сколько наворовали, и где сколько истратили, — все есть! Только одного не видать: каким образом тысячные документы в десятирублевые бумажки превращались.
— Ну, ка̀к не видать?
— Именно не видать. Украл он, положим, облигацию или документ в тысячу рублей выманил — ну, известно, первым долгом в трактир наведался, документ за буфет разменять послал, просидел три-четыре часа за полштофом — смотрит, ан у него в руке только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!
— Наел да напил, может быть?
— Нет, и этого не было, потому что у них ведь водка главную роль играет — куда же тут тысячу рублей рассорить! А так вот: один взял с него куртажные *, другой — за «поворованное» учел (как прежде за постоялое да за полежалое * брали), третий — за то взял, что у таких парней и бог не велел много денег оставлять, четвертый — за то, что воров князьями да графами величал, пятый — за то, что в участок не препроводил… Так она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый дух ее разнес.
— Да, но ты все-таки можешь объяснить себе, куда она разошлась. Эти первый, второй, третий, которых ты сейчас назвал, — все-таки они воспользовались!
— Нет, и они не воспользовались, потому что и с каждым из них та же история завтра повторится. Опять пойдут и куртажные, и за «поворованное», и за величание… А послезавтра уж с тех возьмут, которые вчера взяли… И выйдет на поверку, что из тысячи-то рублей — на сто, много на двести пропито да проедено, а прочее всё на различные невещественные статьи изведено.
— Так что в результате окажется, что вор для того только и ворует, чтоб издержки воровства покрыть? Это, что ли, ты хочешь сказать?
— Именно. А сверх того, еще и то, что ежели бы воры понимали, из-за какой малости они беспокоят себя, так, право, девять десятых из них давно бы эту привычку кинули.
— Да ты, никак, даже жалеешь их?
— Да, заправских воров, тех, которые, со взломом или без взлома, но во всяком случае рискуют своими боками и заранее знают, что не попасть им в места не столь отдаленные нельзя, — тех жалею. А об тех, которые крадут невидимо, которые занимаются только тем, что мой рубль, с божьею помощью, обращают в полтинник, — об тех ничего не говорю: еще не вник.
— А по-моему, так и в заправском воре ничего достойного симпатии нет.
— Ремесло у него тяжелое — вот что. Украсть на полтинник, а измучиться на сто рублей — разве это не каторга? Особливо ежели кто еще не забыл, что он в благородном пансионе воспитание получил.
— Например, твой Иван Иваныч?
— А как бы ты думал! Вот я тебе давеча говорил, что у него даже руку кредиторам подать смелости не хватает! у него, которому не дальше как третьего дня стоило только пальцем поманить, чтоб вся эта ватага, сложивши на груди руки крестом, в умилении внимала, ка̀к он, понюхивая табачок, бормочет: купить-продать, продать-купить! Нет, про̀пасть еще в нем совести, про̀пасть! Уж по одному этому, по одной этой несмелости, ты можешь угадывать, какую он ночь должен был провести накануне того дня, как ему «объявиться» пришлось! Чай, и детство-то всё, и невинность вся прошлая, и папенька и маменька, и первая любовь (он за «нею» двадцать тысяч взял, и тут же их, вместе с прочими, ухнул) — всё, всё перед глазами его пронеслось! Это уж не художественные инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь к этому: он даже не украл, в строгом смысле слова, а только не оправдал доверия… Почему же он совестится и держит себя так, как будто в самом деле украл?
— Да, да, в благородном пансионе воспитывался, похвальные листы получал… Вот и «червонные валеты», и они тоже…
— И их две трети из «питомцев славы» — знаю я и это. Помнишь Дмитриева:
— Как же! Как же! Перед приходом твоим только что вспомнил! А помнишь ли, как ты последний стих переделал: И девок розгами секут? Видно, мы уж с малолетства «славу»-то в смешном виде любили представлять!
— Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого уж нет: ни девы розами не цветут, ни девок розгами не секут. Разве под пьяную руку на Козихе *, да и то — что̀ за радость, как на мировую пятьдесят рублей сдерут!
— Да, некрасивая это штука — «червонные валеты», и не поздоровится от нее «питомцам славы»! А для меня, признаюсь, еще того прискорбнее, что на скамье подсудимых опять будут фигюрировать дети Москвы. Давно ли сидели струсберговцы, давно ли гремели адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди *, дети Москвы, и что иных детей Москва отныне и производить не может, — и вот, точно еще недоставало для полноты картины: опять дети, да вдобавок еще… «червонные валеты»!
— И заметь, что если относительно струсберговцев нужно было еще доказывать, что они — дети Москвы, то тут даже доказательств никаких не потребуется. Прямо валяй стихами:
всякий присяжный заседатель чутьем поймет.
— И представь себе, что ведь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь…
— А теперь собирает «червонных валетов»? — представляю! Но, во-первых, такому городу, который сам себя называет «сердцем России», надо же что-нибудь собирать, а во-вторых, опять-таки повторю: я и вообще ничего против господ воров не имею, а «червонных валетов» — даже люблю. Русские парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у них на первом плане, а выдумка и смешной вид — где, в какой другой стране ты это найдешь? И притом скромны… ну, право же, скромны! украдет красненькую, четвертную — и будет! И сейчас же спешит из этой красненькой уделить рубль тому, кто его графчиком назовет! Спроси-ка об них у трактирных половых, у извозчиков — все в один голос скажут: душевные господа — первый сорт господа! Нет! право… не знаю, как ты, а я чем больше с ними знакомлюсь, тем чаще говорю себе: хорошо с такими парнями недельку-другую пожить — утешат!
— Ну, меня не особенно к ним тянет!
— Это оттого, что ты в Петербурге засиделся, освежаться редко ездишь. А в сущности, что такое Петербург? — тот же сын Москвы, с тою только особенностью, что имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами *. Особенность, может быть, и пользительная, да живется при ней как-то уж очень невесело.
— А по-твоему, лучше в Москве? по-твоему, весело, как над тобой, как над дураком, утешаются, да тут же, с хохотом и с визгом, и существование твое кстати подрывают?
— Дураком никому не весело быть — это я знаю, да ведь не в том и задача веселых русских «выдумок», чтоб «дураку» было весело, а в том, чтоб вот у них, разымчатых парней, сердце играло, да и посторонние чтоб не очень обижались, что в их глазах с прохожего человека пальто снимают. Русский человек любит смешной вид и многое за него прощает — как ты хочешь, а что-нибудь это да значит!

























