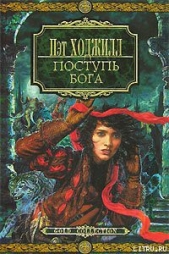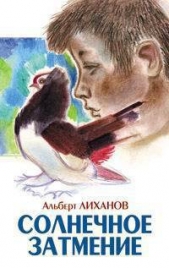Прохождение тени

Прохождение тени читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наш объект-поселок -- еще не вся зона, это только первая зона. Вторую нам не видно из-за деревьев, но я знаю, что там проживает начальник объекта генерал У., который имеет телефон, соединяющий нас с "материком", но телефон очень секретный. Он зарыт в снегу, никто не знает, в каком месте; когда звенит зуммер, это означает, что говорит Москва, и он посылает своего верного адъютанта откопать телефон под такой-то сосной. Телефон откапывают, и из-под земли раздается ледяной голос, которому У. отвечает: "Есть. Есть. Есть". Но в последнее время и в телефоне образовалась дырочка, из него тоже вышел воздух, и теперь У. сам твердым пальцем в белой перчатке набирает номер, а Москва отвечает оттаявшим голосом: "Да. Да. Да". Совсем недавно моему отцу разрешили совершать лыжные прогулки во второй зоне. Вторая зона опоясала кольцом наш поселок с лабораторией. Папа бегает по кольцу второй зоны, он пролетает на лыжах мимо более свободных деревьев, на него падает более свободный снег, он кружит вокруг лаборатории, своего детища, он проносится вдоль проволоки, как электрон вокруг своего ядра, по накатанной до синего блеска орбите. В лаборатории пытаются что-то такое расщепить. Когда это произойдет, мы все получим свободу, так обещал телефон. Все-все -и люди, и деревья, и снег, а колючая проволока, как старая змея, свернется ржавыми кольцами и уползет подыхать под землю... Но это будет грандиозный обман, возражает мама. Колючая змея просто поменяет кожу, а потом снова обовьется вокруг нас... Но папа не желает ее слушать. Разве здесь, где он увлечен любимым делом, а семья и лыжи верны ему, он недостаточно свободен?.. Снег блестит всеми своими гранями и неуловимыми плоскостями по обе стороны его лыжни, когда отец летит с пригорка, играет с ним в неуловимую для глаза игру, обманывает зрение, одаривая его ледяным пристальным блеском, от которого холодеет сердце, но светлеет душа.
В третью зону из всех жителей нашего поселка вхожа только моя мама. Там бараки, в них живут люди, строящие новые лабораторные корпуса. Там много караульных вышек. Мама работает в деревенской школе, находящейся за крайней проволокой, -- от КП третьей зоны маму вместе с детьми офицерского состава по утрам увозит в школу машина. Таким образом, маму можно было считать самой свободной из всех нас -- до той поры, пока однажды дядя Сережа не выполнил своего обещания и не поднял меня на вышку.
Это было самое замечательное путешествие моего детства, и я хочу рассказать о нем отдельно; оно связано с появлением в моей жизни музыки.
Кое-какое представление о ней я имела. Во-первых, музыка по большим праздникам иногда звучала по радио, во-вторых, работники объекта часто собирались в коттедже физика Лебедева для спевок. Лебедев мечтал организовать хор, хотя по-настоящему голоса были только у него, у немецкого химика Штомма, у моей мамы и у Ангелины Пименовны. Опираясь на эти голоса и на имеющуюся у него гитару, Лебедев организовал что-то вроде самодеятельности. На спевках исполнялись романсы русских композиторов и народные песни, в том числе и "Цвели цветики", вологодский распев, положенный в основу финала первой симфонии Чайковского "Зимние грезы". Мама рассказывала мне о Чайковском и его музыке, об отдельных инструментах и их звучаниях, о сюжетах тех или иных музыкальных произведений, подкрепляя свой рассказ мелодиями основных тем -- у нее был негромкий, но очень чистый голос. Таким образом, когда я наконец услышала "Зимние грезы", сразу узнала эту музыку, но это случилось много позже, а тогда, в один прекрасный январский день, уже клонившийся к вечеру, ко мне вошел дядя Сережа с таинственной миной на лице и инеем на усах и сказал: "Ну, девчурка, одевайся, пойдем с тобою охранять покой наших ученых..." И я мгновенно надела кроличью шубу и пуховый платок и пошла за ним, ступая валенками в следы его огромных сапог.
Поднявшись по скрипучей от мороза лестнице на высоту своего роста, я вдруг обмерла и застыла, боясь двинуться дальше, так страшно визжали ее ступеньки под моими ногами. "Что, боязно? -- со смешком произнес дядя Сережа. -- Ну, ступай за мною". И он, взяв меня за руку, стал первым карабкаться наверх. Стало еще страшнее, но я боялась вырвать свою ладонь из руки дяди Сережи, чтобы не рассердить его. Огромная подошва его гулливерского сапога нависла над моей головой: если он оступится, раздавит ее, как яйцо. Дядя Сережа тянул меня все выше и выше, и вскоре я увидела под подошвой его сапога наш коттедж, такой крохотный, что дядя Сережа мог бы с легкостью раздавить и его своим сапогом. Я видела уменьшившуюся амбулаторию, хозблок, магазин, лаборатории моего отца и других ученых, коттеджи, далеко разбросанные друг от друга. Тут дядя Сережа, пригнувшись, вошел в дверь избушки на длинных курьих ножках, а вслед за ним и я. И только здесь, в уютном пространстве караульной будки, где были и скамейки, и стол с телефоном, словно путешествующая на воздушном шаре, я смогла сбросить тяжелый груз своих страхов и взлетела в деревянной корзине высоко в хвойные небеса, где Борей играл в четыре руки с Иоганном Себастьяном...
Домик завис меж вершин сосен, с них струилась голубая высь, как мелодия флейты на стушеванном фоне скрипичного тремоло жемчужно-серого, скорбного неба. Вот альты переняли у флейты эту мелодию, сделав обзор с высоты вышки необыкновенно отчетливым. В группе деревянных -- гобоя, кларнета и фагота -промелькнул тревожный мотив метели, завивающейся вокруг игрушечных домиков внизу, -- и сменился мерным, убаюкивающим ритмом в струнных, в высоких корабельных соснах, которые стояли, как огромные якоря, и не давали пурге унести наш поселок. Деревья, мирно покачивая заснеженными ветвями, шагали в сторону густого леса, обнимавшего со всех сторон наш плененный проволокой объект. Небо и лес как будто плотнее сложили свои ладони, и в щели между ними засияло вырвавшееся из-под туч заходящее солнце... И вот снег поглотил голубые тени, отбрасываемые деревьями; все мотивы вдруг поменяли окраску, поселок окутали валторны сумерек, и по домикам внизу, как длинное дыхание арфы, пробежали зажегшиеся в окнах огоньки. Колыбельная смолкла на чуть слышном пиано-пианиссимо, и тут, точь-в-точь как в "Зимних грезах", последовало причудливое скерцо. Из лабораторий выходили люди, рабочий день окончился, переговариваясь, они шагали группами и поодиночке к своим домикам, все как будто ожило в сгущающихся сумерках, и через несколько минут я действительно услышала "Цвели цветики", грянувшее из лебедевского коттеджа...
Это было первое в моей жизни настоящее путешествие, и из него я вернулась другой, как и подобает путешественнику. Я увидела наш дом, наше жилище другими глазами, словно за эти минуты, проведенные между небом и землей, почувствовала всю хрупкость нашего существования, как бы висящего на единственном гвозде, прибитом наспех к бревенчатой морозной стене караульного помещения.
Когда раздавали казенную мебель, нам достались уродливый диван, стол, две солдатские кровати. Отец ползал по комнате с сантиметром в руках, принюхивался, зажмурив от удовольствия глаза, и расставлял ее с такой детской радостью, будто эти вещи могли удержать его в золотом сечении вечной свободы. Человек, разжившийся мебелью, уже был гол не как сокол, его не могли в одно утро запросто перебросить из одного места в другое, раз он расписался в инвентарной книге за такое количество ценных вещей. И когда отец прибивал книжные полки, он вгонял гвозди навсегда -- с такой молодой удалью, что, казалось, они немедленно пустят корни в стену. Тяжелый кожаный диван с валиками получил название "ложе Пенелопы" -- как известно, Одиссей сделал его из огромного пня срубленной маслины. Дубовый письменный стол отец немедленно загрузил своими бумагами, книгами, справочниками. Потом он, оторвавшись от своих дел, для новогодней елки под руководством мамы охотно разрисовывал яичную скорлупу, вырезал из бумаги балерин, красил серебрянкой шишки, пробирки, колбы, из куска колючей проволоки, выдержанной в солевом растворе, соорудил морозную звезду и прикрепил ее к верхушке деревца. Новый год прошел, но елка долго стояла наряженной, как примета вечного праздника. Там и тут на стенах жилища отец развесил простенькие мамины акварельки и прибил гвоздями ковер, сшитый ею же: по серому полотну один за другим идут сатиновые звери к ситцевой избушке с серым шелковым дымом из трубы. Под ковром в деревянной кроватке с высокими дубовыми спинками спал его ребенок и видел сладкие сны, навеваемые мирным сюжетом ковра. Раз у человека есть своя собственность, значит, он уже не чужой самому себе человек. Каждую свободную минуту отец норовил украсить наш дом -- то сосновые стружки развешивал по стенам, как гирлянды, то ремонтировал пол в сенях, то дерматином обивал входную дверь.