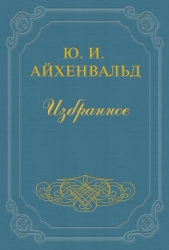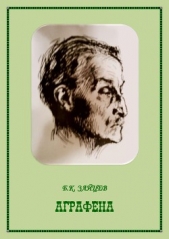Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Больше года назад я потерял здесь жену, — говорил я, — и она, и я, мы родились здесь, здесь я любил ее и был счастлив. Здесь ее отняли у меня; здесь я страдал и погибал — умру, верно, тоже здесь. После нее я люблю тебя только, и одно, что меня удручало, — что тебя нету тут со мной, что я потерял и тебя из виду.
Мы молчали долго. Вечерело. Алексей сел в кресло.
— У тебя здесь как‑то чинно в квартире, как‑то важно, торжественно. Но хорошо… и внизу там тоже хорошо!
Внизу под нами был переулок, тихий и старый. Налево в нем подымалась церковка — почти до той же высоты, на какой были и мы. Она тоже была старая и смирная церковь; сейчас, в зачинавшемся оранжевом полусумраке, она вычерчивалась тонким и благородным силуэтом на небе, и в этой русской ее незаметности, в пирамиде над колоколами, в городках, глубоко уходивших в пирамиду, — было что‑то вековое; почти черные, июльские липы охватывали ее кольцом; они цвели; их сладкий запах шел оттуда струями и растекался по переулку.
Мы сидели и разговаривали. Темнело. Церковь с липами сливалась в одно, и липы стали еще черней.
— Алексей, — говорю я, — я не верю в твою болезнь!
Он улыбается.
— Не верь. Но она есть.
Я гляжу в церковный садик. Там мы бродили с ней раз поздней ночью, и тихий красный огонек виднелся в церкви тогда; за решетчатым, важным окном он мигал, мигал, маленький, пустынный и жуткий. Вспомнилось вдруг, как тогда, сразу и у меня и у ней, прошло под сердцем что‑то ледяное, точно мы предчувствовали нечто, точно под той тихой церковью была бездонная, черная тьма; мы прижались друг к другу и долго, как напуганные пичуги, сидели в том маленьком сквере, не говоря ни слова; а сумрак ночи реял вокруг.
Алексей как будто отгадал, о чем я думаю.
— A–а, ты боишься. Боишься! А между тем все они не страшны, поверь, совсем не страшны.
Он все сидел в кресле — большой, кроткий и усталый. Мы долго говорили с ним в тот вечер.
В моей памяти все это навсегда заняло свое место: спускавшийся на землю, будто живой, вещий мрак, черные липы вокруг церкви и маленький, припомнившийся огонек; сам Алексей, нежданный, дорогой гость, и его тихие слова в мглистом воздухе под трепет жуткого, мерещившегося мне света; весь вечер на высоте, пред ночью и небом.
Жизнь с Алексеем чрезвычайно радовала меня. Что‑то детское, давно отшедшее, вновь вошло в эти комнаты. Алексей был тяжко болен, но мог ходить и только временами страдал. Теперь я больше бывал дома, читал, говорил с ним, иногда возил его в парк и за город, но чаще вечерами мы бывали дома, в прохладной большой комнате с балконом, отведенной ему.
Алексей был покоен.
— Мне даже странно, что мы живем тут так, — как жаждал я этой тишины… этих простых, нежных звуков, такого неба… Лазури такой.
— Но все это в тебе самом, ты везде и всегда будешь таким.
Случалось, что по ночам он не мог заснуть. Это чувствовалось еще с вечера по какой‑то особенной сухости его тела, как будто слегка терявшего в весе, по особенному, тихому возбуждению, какое я встречал лишь у него и которое напоминало мне молитвенный экстаз. Тогда он будто отделялся от своей болезни, терял различие между днем и ночью, и часами мог бродить по пустым комнатам, неслышно ступая туфлями и дожидаясь рассвета. Обыкновенно мне сообщалось нечто в этом роде, и даже старая моя прислуга Анфиса нередко просыпалась в эти ночи–бодрствования, крестилась и шептала пред своими лампадками.
Какие это были странные, смутные ночи! Раз неожиданно Анфиса принесла нам кипящий самовар, и в комнате со сладковатым, душным запахом лекарств, в полумгле летней ночи, я поил Алексея малиной и чаем, а Анфиса шуршала где‑то у себя, охала, крестилась… Тихо было на улицах, ночь неслышно сторожила нас, и в церковной ограде, среди июльских лип, стояла тьма.
В наших комнатах, за полуспущенными гардинами, в прохладе каменных стен было нежарко, но город изнемогал.
Садилось солнце, жар стихал, приходила бледная, робкая ночь. Сидя с Алексеем поздним вечером на балконе, мы любовались далями; все слегка затуманено, сухая, бело–пыльная дымка стояла над городом; некоторые улицы внизу, пустынные уже, как бы отдавшиеся чему‑то, смутно белели недвижными лентами; и наш переулок, обвеянный за день известковой пылью от строившихся домов, дремал и мерещился мне белесоватым каналом.
В один из таких вечеров, после полуночи, я ушел от него в комнату к себе. Я прилег и спал смутно, по–лубодрствуя; но через час проснулся; в промежутках между портьерами чуть брезжило. Я встал и прошел в комнату Алексея. Там никого не было — дверь на балкон открыта. Я тихо подошел к двери, — Алексей стоял ко мне спиной и смотрел вдаль, на город.
Бледно–зеленый, девственный, тихий рассвет. Гардины висят беззвучными складками. Что‑то томное в комнате.
Странное чувство охватило меня: вдруг, беспричинно и наверняка, я почувствовал, что Алексей обречен. Он стоял такой большой, неравноплечий, положив свою некрасивую ладонь поперек на влажные перила; перед ним вдали млело и дымилось слегка все, благодатная влага утра сходила на землю, и он был обречен, быть может, этим рассветом.
Я стоял молча. Он не видал меня и сел в глубокое кресло, ко мне в профиль. Тогда я подошел; он увидел меня и пристальным взором глядел мне в глаза. Я не мог отвернуться. Неожиданно для себя я подошел к нему, опустился на колени и прильнул головой к его ногам; он смотрел на меня слегка улыбаясь. Понимал он? Не знаю. Но не удивился, что голова моя лежала на его коленях, и все смотрел.
— Хорош рассвет. Как бледно, чисто, славно там!
Я не плакал. Что‑то сияло на лице моего друга; слабо золотел крест на церкви; сумрак утра был зеленоват и тонок.
Как милы, дороги мне были острые коленки Алексея!
Раз ночью, в час, дверь моя скрипнула: вошел Алексей. Он подошел к моей постели и присел на нее.
— Я хочу немного пройтись. Может быть, и ты со мной?
— Охотно.
Я оделся, взял его под руку, и мы отправились.
На лестнице было сумеречно; в пирамидальном стеклянном колпаке для света виднелось небо; оно серело, звезды ломались и дробились в стекле.
Медленно, чтобы не утомить Алексея, мы двигались по тротуару к скверу за церковью. В городе, где‑то далеко и глухо — шумело; как будто все вдали было затоплено гудящим морем, и только здесь, в сквере, у старой церкви, стояла эта глубокая тишина.
Мы сели на скамеечку. Деревья вокруг стояли — черные; и несколько переулков, сходившихся к скверу, были безлюдны: город спал, и его каменный сон был жуток. Темные дуновения налетали откуда‑то сверху.
Тот же сквер. Я оглянулся на церковь. Что она там чернеет, многодумная, закутанная в ночные одежды? Не подслушиваем ли мы тут кого?
Мы молчали тоже. Потом Алексей встал.
— Пойдем.
Мы обошли вокруг церкви. Густая темная трава росла за оградой; у паперти, у старой, коричнево–черной иконы, краснела лампадка. Веночек полузасохших цветов висел над ней. Ризы других святых под стеклом слегка поблескивали золотом. И все дремало во мраке.
— Как я устал, — говорит Алексей, — даже идти тяжело.
Мы подымаемся с усилием по лестнице. Наверху, у себя в комнате, Алексей покорно снимает ветхую серую куртку со стоячим воротником, трет лоб, что-то мучительное появляется в его взгляде; жалобно бьются жилки на висках, — мелкие, утомленные жилки. Но он смирен, медленно он раздевается и ложится в постель. Я шагаю. Он закрыт одеялом до подбородка, и ноги его торчат прямо и неподвижно.
— В одну из таких пустых ночей я и умру.
Это верно, ночь пуста. Не знаю почему, но она пустая ночь. Но отчего он не боится?
— Алексей, ты веришь в то, что будешь жить и дальше?
— Не знаю. Да мне и так не страшно.
Не страшно! И правда, ему не страшно.
Выхожу на балкон. Сумрак редеет и как будто колышется. Небо стоит над нами, над городом и надо всем миром. Что оно стоит там, что слушает наш разговор? Дальнее, глубокое небо, в котором тонем все мы: но молчит и слушает.