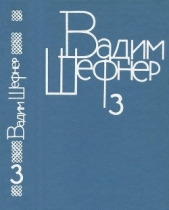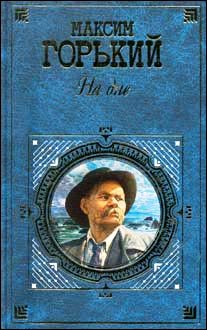Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты считаешь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!
— Да! — сказала она. — Это — страшнее.
Они открыли ворота пред нею, выпустили её из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой её сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, — матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.
Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать её; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на неё со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадёжность.
Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили её, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались чёрные, как она, фигуры.
Подошли и спросили — кто она, куда идёт?
— Ваш предводитель — мой сын, — сказала она, и ни один солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умён и храбр её сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — её сын таков и должен быть!
И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, — в шёлке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.
— Мать! — говорил он, целуя её руки. — Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!
— В котором ты родился, — напомнила она.
Опьянённый подвигами своими, обезумевший в жажде ещё большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:
— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город для тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!
— Где каждый камень знает и помнит тебя ребёнком, — сказала она.
— Камни — немы, если человек не заставит их говорить, — пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!
— Но — люди? — спросила она.
— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!
Она сказала:
— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть…
— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город…
— Который пережил все имена, — напомнила мать.
Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась её гордая голова.
Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против неё, а он не знал этого и отрицал смысл её жизни.
Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — её сын не видел этого, ослеплённый холодным блеском славы, убивающим сердце.
И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идёт о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.
Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребёнка, который теперь хочет разрушать.
Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стёкла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звёзды.
Она видела там, в тёмных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шёпота людей, ожидающих смерти, — она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая её решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.
С чёрных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обречённый смерти.
— Может быть, мы обрушимся на него ещё ночью, — говорил её сын, — если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов, — говорил он, рассматривая свой меч.
Мать сказала ему:
— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребёнком и как все любили тебя…
Он послушался, прилёг на колени к ней и закрыл глаза, говоря:
— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.
— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.
— Их — много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.
Она спросила его в последний раз:
— И ты не хочешь иметь детей?
— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьёт их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.
— Ты красив, но бесплоден, как молния, — сказала она, вздохнув.
Он ответил, улыбаясь:
— Да, как молния…
И задремал на груди матери, как ребёнок.
Тогда она, накрыв его своим чёрным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьётся сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумлённой стражи, она сказала в сторону города:
— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.
И тот же нож, ещё тёплый от крови его — её крови, — она твёрдой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.
XII
Звенят цикады.
Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и всё время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.
Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — всё в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; всё это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.
— К ночи разыграется крепкий ветер! — говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.
Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.
Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.
— Полсотни лет тому назад, синьор, — говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад, — был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда всё смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.