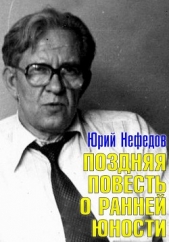Сим-сим

Сим-сим читать книгу онлайн
"Сейчас квартиры светлые, просторные. Легкая мебель. Солнце, разлитое по потолку. Праздник журнальных обложек. Цветной телевизор... И редко где семейные фотографии. Зато прекрасные зеркала..." - начинает поэт Александр Васютков свою мемуарную повесть. Она - о детстве, отрочестве, юности других времен, о семье и доме других людей. Людей, которые не просто помнят которые имеют волю к памяти и которым есть что помнить (зеркало, упомянутое выше, не помнит, у него задача иная). Герой-повествователь Васюткова - из поколения сыновей тех, кто воевал и уцелел в Отечественной войне. Отсюда и характерные вешки его рассказа (их в цепкой васютковской прозе бесконечно больше, выхватываю наугад и не могу остановиться): "до революции дед мой, сын тверского лесничего", бабушка "едет в какой-то Торгсин, продавать золото", "длиннолицые пленные немцы" на московских послевоенных стройках, идущий на окраину "деревянный желто-красный трамвай", по радио - "Сулико", хор Пятницкого и "Ах, Самара-городок", в коммуналках "устоявшийся запах желудевого кофе", "караваны фарфоровых слоников, глиняные кошки-копилки с нежно-вороватыми голубыми глазами...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И угощают портвейном, и суют сигаретку. А мне неловко, что вот у них такая тягомотина, а у меня - жизнь, и каждая секундочка на счету.
А вечерами своя компания. На самой дальней и темной скамейке, в самой-самой тени деревьев. Мальчики и девочки. Гитара и любовь. Смех и слезы. Визбор и Городницкий, Ада Якушева и Новелла Матвеева, Анчаров и Окуджава. И тоже горят дешевые сигареты, и тоже ходит по кругу бутылка вина. Но здесь это все неглавное, прикладное, необязательное..
В весенние каникулы от музея подарок! Едем всей группой на автобусе во Владимир и Суздаль.
Синий саврасовский март с ярким промытым небом, подтаявший снег. Белая Русь, праздничная под солнцем, ледяная и серая изнутри, в заброшенных разоренных церквях.
Пытаюсь вести дневник. Но скучно и не умею. Остается только несколько скорых записей в школьной тонкой тетрадке.
Во Владимире церкви используются под склады, магазины, столовую, библиотеку и даже под планетарий...
Были на вечерней воскресной службе в Успенском соборе. Мужчин почти нет, зато очень много пожилых женщин в одинаковых серых платках и черных пальто. Наши девчонки резко выделяются на их фоне. Я стоял за колонной и ничего не видел, но постепенно подошел к самому алтарю. Запах ладана, горящие свечи, всхлипы старух, чтение архиепископа, пение хора здорово играли на нервах, перенося в далекое прошлое. Не удивительно, что раньше все верили в бога, потому что, побывав в церкви, и сам начинаешь немного верить в него. Но электрические лампочки в старинной люстре и звон собираемых монет резко контрастируют на фоне всей этой торжественности.
В саду рядом с собором играла музыка, по главной улице Владимира гуляло столько людей, сколько, пожалуй, увидишь только на улице Горького, сияли вывески. И наши девчонки прямо тут же, перед собором, принялись танцевать вальс, звучавший по радио.
Интересно, что люди во Владимире ходят медленно, никуда, кажется, не спешат, поэтому на нас все обращали внимание.
В Суздале людей на улице почти не видно. Он мне понравился больше, чем Владимир, - сплошные церкви и колокольни. Одна церковь была там в "лесах", и местные мальчишки лазали по ним на купола. Я, не долго думая, тоже полез, однако потрясающих видов не было. Мальчишки держались со мной, "московским", с достоинством, хотя были плохо одеты. Мне было стыдно, что я одет лучше. Как было стыдно и горько на протяжении всей поездки, когда нас осматривали, как экспонаты, как "иностранцев", и сбегались смотреть на наш автобус.
Оказывается, все мальчишки и девчонки суеверны, хотя мальчишки меньше. По дороге из Суздаля в Кидекшу я разговорился с одной девчонкой. По изгибу губ, по походке и рукам она определяет, нравится ей человек или нет. В этом тоже есть какая-то доля суеверия. Один парень серьезно считал, что у него несчастная судьба только потому, что он родился в ноябре. У меня тоже свои приметы, но о них нельзя писать, иначе они потеряют силу.
Между прочим, эта девчонка сказала: "Когда читаешь стихи, кажется, что все поэты молодые". Как это символично!..
Ходить в церковь заразительно. Уже в Москве многие мои знакомые, которые были на службе во Владимире, рвались посетить московские церкви...
Вот и все записи юного атеиста. Какой-то кошмар! Больше никогда в жизни я дневников не вел. Да и на бумаге всегда предстаешь глупее и бедней, чем ты есть на самом деле. Пропадает главное - ощущение, неповторимость, впечатление. Где тут Суздаль или Владимир? Где Кидекша, Боголюбово, Покров на Нерли? Где все то, что я и сейчас вижу в глубине себя, глазами того мальчика, - ярко, выпукло, полно...
А девчонку, с которой мы болтали о суевериях и поэзии, я тоже вспомнил. Ее звали Наташей.
Как Суздаль маковки качал! Белели церкви парусами. И зимний день меня встречал твоими синими глазами. Ты переполнила зиму, как солнце шлемы колоколен. Я шел по следу твоему, я был тобой, как Нерлью, болен...
Я действительно робко шлялся за этой очкастой, вечно размышляющей Наташей, которая не обращала на меня никакого внимания. Не то что бы я влюбился, а так, просто выбрал себе ее на время поездки в "прекрасные дамы". Да и не колокольни имел я в виду, а купола церквей, когда писал в то время сие романтическое стихотворение.
Везло мне что-то на Наташ, я так безумно в них влюблялся!..
Наташ я себе действительно напророчил. Их было много в моей жизни, разнообразных Наташ, начиная с этой Наташи...
Но что-то во всем этом хитросплетении есть и еще. Неуловимое, юное, живое, имя которому - Творчество. Которое не стареет, тогда как я, Создатель, все ближе и ближе к своему небытию.
Уже установлено, что рублевская "Троица" и другие его иконы излучают энергию. Так, стало быть, искусство - сохранившаяся энергия его творца? Стало быть, так. Такая, какой наделен был Создатель во время Творения.
Так она и существует, и накапливается вокруг нас. Невидимая овеществленная энергетическая оболочка, которая внушает нам веру в бессмертие.
Но что толку, если ты - эта книга, это стихотворение, эта картина или симфония, а твое "я", осознающее себя как собственное "я" во времени и пространстве, лишившись своего материального тела, уже не существует? Ты есть для других, живущих, но тебя уже нет для тебя самого. Вот она - "жизнь после смерти"...
Гаснет яркий свет в конце туннеля. Гаснут полянки, где встречают тебя твои умершие родственники. Гаснет сознание, воспарившее над твоим собственным мертвым телом.
Ничего нет. Только книга, картина, музыка...
Да только будут ли ее читать? Будут ли ее смотреть, слушать? А если книга не напечатана? А если партитура потеряна? А если просто выкинута на свалку новоявленным наследником? А если ты вообще никакой не писатель, не композитор, не художник?.. И все. Нет тебя, как будто никогда и не было. Твоя бессмертная энергия распалась на элементарные частицы, как и твое бренное тело. "Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху..." Немного помедлишь в памяти близких и уйдешь вместе с ними. В небытие.
Хотя эту мысль можно и продолжить. Твой свет отразился в твоих близких, преломился в них, подсознательно и безличностно перешел с их собственным светом к другим, кого ты уже не знаешь. Допустим, к правнукам и праправнукам. А от них, преломившись, еще дальше. Вот тебе и бессмертие. Генная инженерия. Но все равно небытие...
Одно утешение - люди устроены так, как будто собираются жить вечно. И никто не знает своего часа.
Может, я умру лет через тридцать, а может, и сегодня. Даже от этой проклятой простуды с сухим душераздирающим кашлем...
Однажды, пятнадцатилетним мальчиком, приехав на каникулы к родным в Ульяновск, сидел я на осенней скамейке в аллее, идущей вдоль Волги. Чужой в чужом городе, весь переполненный горьковатой светлой тайной отмирающей природы.
Я был один. Один на всю аллею, на весь белый свет. Пока откуда-то не возникла старая цыганка. В грязной длинной цветастой юбке, бархатной фиолетовой кацавейке. Руки у нее были сухие и темные, обрамленные тяжело мерцающим золотом, отполированные, как дорогое дерево. И глаза на желтом лице - две живые черные полыньи. И старинное тусклое серебряное монисто на долгой жилистой шее. И тяжелые вороньи волосы с отливом синевы.
Я огляделся вокруг. Она тоже была одна. До этого я никогда не видел одиноких цыган. Они всегда ходили гурьбой, гортанно переговариваясь, увлекая в свой затейливый шумный мир доверчивых и беззащитных. А тут, в самом начале жизни, старая одинокая цыганка. Она и я. И только корявый ветер и плеск спокойной волжской воды.
- Дай, тебе погадаю, - сказала цыганка.
Я растерялся. Я знал, что цыганам надо платить. И хотя была у меня в кармане новая зеленая трешка, я ее пожалел. Я сказал - "у меня нет денег" и еще глубже засунул трешку в карман.
- Дай правую руку, - властно приказала цыганка.
И мне пришлось вытащить руку из предательского кармана.
- А теперь дай левую...
Она внимательно смотрела на мои ладони, на сплетения линий моей судьбы. Она уже знала мою судьбу.