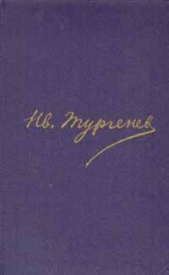Том 8. Повести и рассказы 1868-1872
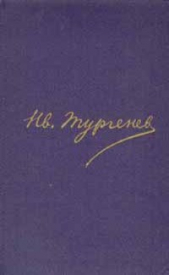
Том 8. Повести и рассказы 1868-1872 читать книгу онлайн
В восьмой том включены повести и рассказы: «История лейтенанта «Ергунова», «Бригадир», «Несчастная», «Странная история», «Степной король Лир», «Стук… стук… стук!» и «Вешние воды».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Огурец уже не пел… Он орал:
Первые два стиха каждого куплета Огурец пел протяжным голосом — остальные три, напротив, очень живо, причем щеголевато подпрыгивал и переступал ногами; по окончании же куплета откалывал «колено», то есть ударял самого себя пятками. Воскликнув во всё горло: «Косой обманул!», он перекувырнулся… Ожидания его оправдались. Бригадир вдруг залился тонким слезливым хохотом, да так усердно, что дальше идти не мог — и слегка присел, бессильно похлопывая руками по коленкам. Я глядел на его побагровевшее, судорожно искривленное лицо, и очень мне жаль его стало — именно в это мгновенье. Воодушевленный успехом, Огурец пустился вприсядку, беспрестанно приговаривая: «Шилды-будылды да начики-чикалды!..» Он ткнулся, наконец, носом в пыль… Бригадир внезапно перестал хохотать и заковылял дальше.
Мы прошли еще с четверть версты. Показалась маленькая деревушка на краю неглубокого оврага; в стороне виднелся «флигелек» с полуразметанной крышей и одинокой трубой; в одной из двух комнат этого флигелька помещался бригадир. Владетельница деревушки, постоянная обитательница Петербурга, статская советница Ломова, отвела — как я узнал впоследствии — этот уголок бригадиру. Она велела выдавать ему месячину, а также приставить к нему для услужения проживавшую в той же деревне дурочку из дворовых, которая хотя и плохо понимала человеческую речь, однако могла, по мнению советницы, и пол подмести и щи сварить. На пороге флигелька бригадир снова обратился ко мне с прежней екатерининской улыбкой: не угодно ли, мол, мне пожаловать в его апарта́мент? Вошли мы в этот «апарта́мент». Всё в нем было до крайности грязно и бедно, так грязно и так бедно, что бригадир, вероятно заметив по выражению моего лица, какое впечатление произвело на меня его жилище, промолвил, пожав плечами и прищурившись: «Се-не-па… öль-де-пердри…» * [17]Что собственно хотел он этим сказать — осталось мне не совсем ясным… Заговорив с ним по-французски, я не получил ответа на этом языке. Два предмета особенно поразили меня в жилище бригадира: во-первых, большой офицерский георгиевский * крест в черной раме, под стеклом, с надписью старинным почерком: «Получен полковником Черниговского Дерфельдена полка * Василием Гуськовым за штурм Праги в 1794-м году»; а во-вторых, поясной масляный портрет красивой черноглазой женщины с продолговатым и смуглым лицом, высоко взбитыми и напудренными волосами, с мушками на висках и подбородке * , в пестром вырезном роб-роне с голубыми оборками, эпохи восьмидесятых годов. Портрет был плохо написан — но, наверное, очень схож: чем-то слишком жизненным и несомненным веяло от этого лица. Оно не глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него и не улыбалось; в горбине узкого носа, в правильных, но плоских губах, в почти прямой черте густых сдвинутых бровей сказывался повелительный, надменный, вспыльчивый нрав. Не нужно было особого усилия, чтобы представить себе, как это лицо могло внезапно загораться страстию или гневом. Под самым портретом, на небольшой тумбочке, стоял полузавядший букет простых полевых цветов в толстой стеклянной банке. Бригадир приблизился к тумбочке, воткнул в банку принесенные им гвоздики и, обернувшись ко мне и подняв руку в направлении портрета, промолвил: «Агриппина Ивановна Телегина, Ломова урожденная». Слова Наркиза пришли мне на память: я с удвоенным вниманием посмотрел на выразительное и недоброе лицо женщины, из-за которой бригадир всего состояния лишился.
— Вы, я вижу, присутствовали при штурме Праги, господин бригадир, — начал я, указывая на георгиевский крест, — и удостоились получить знак отличия, во всякое время редкий, а тогда подавно; вы, стало быть помните Суворова?
— Александра Васильича-то? — отвечал бригадир, помолчав немного и как бы собираясь с мыслями, — как же, помню, маленький был, живой старичок. * Ты стоишь, не чукнешь — а он туды-сюды (бригадир захохотал). В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бралиантах * , а полякам говорит: «Нету у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!» * а они-то: «Виват! виват?» * Чудаки! Эй! Огурец! малый! — прибавил он вдруг, переменив и возвысив голос (балагур-дьячок оставался за дверью), — где ж калачики-то? Да Груньке скажи… как бы кваску!
— Сейчас, батюшка барин, — послышался голос Огурца.
Он вручил бригадиру связку ситничков и, выйдя из флигелька, подошел к какому-то взъерошенному существу в лохмотьях — должно быть, самой той дурочке Груньке — и, сколько я мог разобрать сквозь запыленное окошко, начал требовать от нее «кваску», ибо несколько раз сряду приставлял одну руку воронкой ко рту, а другою махал в нашу сторону.
Я снова попытался вступить в беседу с бригадиром; но он, видимо, устал, опустился, кряхтя, на лежанку и, простонав: «Ой, ой, косточки, косточки», развязал свои подвязки. Помнится, меня тогда удивило, как это у мужчины могли быть подвязки? Я не сообразил, что в прежнее время все их носили. Бригадир принялся зевать продолжительно и откровенно, не спуская с меня отупелых глаз: так зевают очень маленькие дети. Бедный старик, казалось, не совсем даже понимал мои вопросы… И он брал Прагу! Он, со шпагой наголо́, в дыму, в пыли — в челе суворовских солдат, простреленное знамя над головой, обезображенные трупы под ногами… Он… он?! Не удивительно ли? Но мне все-таки сдавалось, что в жизни бригадира происходили события еще более необыкновенные. Огурец принес белого квасу в железном ковшике; бригадир напился с жадностью — руки его тряслись. Огурец поддерживал дно ковшика. Старик старательно отер свой беззубый рот обеими ладонями — и снова, уставившись на меня, зажевал и зачмокал губами. Я понял, в чем дело, раскланялся и вышел из комнаты.
— Теперь почивать будут, — заметил Огурец, выступая за мною. — Очень уж уморились сегодня — на могилку с утра ходили.
— На чью могилку?
— А к Аграфене Ивановне на поклонение… Они тут у нас в приходском кладбище похоронены; верст отсюда пять будет. Василий Фомич каждую неделю беспременно к ним ходят. Да он же их и похоронил и ограду поставил на свой кошт.
— А давно она скончалась?
— Да лет почитай с двадцать.
— Она ему приятельницей была, что ли?
— Всю жисть, как есть, с ними провели… помилуйте. Сам я барыни той, признаться, не знавал — а, говорят, промеж их дела были… ннну! Господин, — поспешно прибавил дьячок, видя, что я отвернулся, — не соблаговолите ли, не пожалуете ли «още» на шкалик — а то мне пора в пуньку [18]да под шептуху [19].
Я не почел за нужное расспрашивать Огурца — дал ему еще двугривенный — и отправился домой.
Дома я обратился за сведениями к Наркизу. Он, как и следовало ожидать, поломался немного, поважничал, выразил свое удивление, что меня такие пустяки «антересовать» могут, и наконец рассказал что знал. Я услышал следующее: