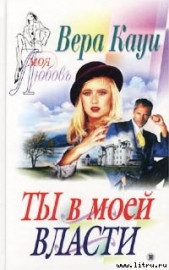Не убоюсь зла

Не убоюсь зла читать книгу онлайн
Книга о тех, кого оставил в ГУЛАГе, желание поделиться опытом с теми, кто может там оказаться - таковы мотивы написания воспоминаний Натаном Щаранским. Факты, которые описаны в книге, в течение девяти лет были единственным содержанием жизни. Они мысленно повторялись, перебирались, продумывались, анализировались в тишине тюремного карцера тысячи раз.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Попробуем через нос, - сказал врач, и кто-то из них стал пытаться вставить мне шланг вначале в одну ноздрю, потом в другую. Но то ли резиновая кишка была слишком толстой, то ли помешала моя перекошенная слегка переносица - напоминание о единственной в моей жизни драке, когда мне, четырнадцатилетнему, пришлось ответить на антисемитские выпады соседа-сверстника, - только и здесь моим кормильцам достичь своей гуманной цели не удалось.
- Ладно, давайте через зад, - отступился наконец врач.
Меня повалили на нары, раздели - и благополучно влили с помощью клизмы в мой пустой желудок содержимое миски. Не знаю, на что рассчитывали специалисты от карательной медицины, но эффект нетрудно было предвидеть: он был таким же, как если бы мне сделали обычную клизму, - меня пронесло.
Униженным я себя не чувствовал нисколько. Но и сил у меня от этой процедуры не прибавилось. Через три дня она повторилась, а еще через несколько дней, когда мой пульс уже едва прослушивался, все та же компания явилась вновь, захватив с собой на сей раз более совершенные орудия пытки.
- Хватит дурака валять! - гаркнул врач. - Мы ведь все равно вас накормим!
На моих руках, заведенных за спину, защелкнулись наручники, трое ментов, как и в первый раз, навалились на меня, а кто-то еще инструментом, похожим на огромные клещи, сдавил мне лицо в тех местах под скулами, где сходятся челюсти, и, нажимая, покручивал этим орудием, как делают, вытаскивая застрявший в доске гвоздь. Боль была невыносимой; казалось, что зубы трещат. Когда я все же приоткрыл рот, мне всунули между зубов какую-то металлическую штуку.
- Крути ротооткрыватель! - услышал я голос врача.
Я почувствовал у себя во рту две железные пластинки, которые от вращения винта стали расходиться, все более увеличивая просвет между зубами. Через минуту сложная техническая задача по введению в меня шланга была успешно завершена.
Я уже не сопротивлялся, наоборот, расслабился, желая только одного, чтобы все это поскорее кончилось. Но неожиданно взбунтовалась такая вроде бы несамостоятельная деталь моего организма, как горло: когда врач попытался всунуть шланг поглубже, чтобы добраться до желудка, оно отреагировало спазмами. Мой "спаситель" продолжал шуровать резиновой кишкой, пытаясь преодолеть сопротивление мышц, и я начал задыхаться, терять сознание. Но в этот момент бессмертный человеческий дух, воплотившийся в тюремном враче, победил бренную плоть зека, шланг оказался в моем желудке, и тот стал наполняться питательной смесью, призванной продлить мои дни.
Представления не имею, почему эта процедура, которую многие мои друзья переносили сравнительно легко, оказалась для меня такой мучительной...
Наконец у меня из горла выдернули шланг, и живительная смесь фонтаном последовала за ним, оставив следы на потолке, на стенах, на столе, запачкав стоявшие на нем фотографии. И сегодня карточка Авитали - та самая, первая - напоминает мне о двух эпизодах моей гулаговской жизни: надрывом на ней -о суде, пятном - о той голодовке.
Мои "спасители" уложили меня, подержали меня в таком положении сначала в наручниках, затем без них и ушли.
Я лежал, судорожно глотая воздух ртом. Сердце бешено колотилось. В висках стучала кровь. Камера плыла перед глазами. Страшно болел живот.
Прошло не меньше часа, прежде чем я начал приходить в себя. А еще где-то через час силы стали возвращаться ко мне: сердце хотя и болело, но работало нормально. Я встал и осторожно прошелся несколько раз по камере. Голова вроде бы не кружилась. Сел за стол, написал домой очередное краткое письмо - точную копию предыдущего, конфискованного. Его, естественно, тоже конфискуют. Но каждые две-три недели я буду подавать новую копию, напоминая КГБ, что отступать не собираюсь.
Проснувшись на следующий день после искусственного кормления, я обнаружил, что энергии моей поубавилось. Опять во время ходьбы кружилась голова, а при любом резком движении в глазах темнело. К концу дня я уже лежал пластом, с трудом двигая руками и ногами. Следующие ночь, день и еще одна ночь оказались тяжелыми: я терял силы с каждым часом, пульс ослабел настолько, что совсем перестал прослушиваться. Я цеплялся взглядом за фотографии и мыслью - за прошлое, представлял, что делает сейчас Авиталь; а когда уже и воображение стало отказывать, когда осталось лишь одно чувство - упрямое безразличие, пришли врач с ментами и влили в мня очередной литр питательной смеси. И опять сердце запрыгало как бешеное, а я лежал и хватал ртом воздух.
В этом трехдневном цикле самым мучительным, пожалуй, были именно перепады: от почти бессознательного состояния - к крайней степени возбуждения, затем медленное сползание вниз и через три дня - опять резкий скачок. И после каждого такого скачка сердце болело все сильнее и сильнее. Наверное, если бы ту же самую порцию смеси мои "спасители" разделили на три части и вливали в меня ежедневно, организм перенес бы это значительно легче. Но "спасение" было неотделимо от пытки. Кормлением власти спасали мое тело, пыткой пытались "спасти" мою душу.
Репродуктора в камере я почти не выключал, чтобы лишний раз не вставать с нар. Конечно, в нормальных условиях большинство передач слушать совершенно невозможно, но сейчас они были для меня просто звуковым фоном, напоминающим о том, что я еще жив, а кроме того, радио помогало мне ориентироваться во времени.
...Утром десятого ноября восемьдесят второго года, на сорок пятый день голодовки, я лежал в ожидании очередной экзекуции, находясь, как всегда в конце трехдневного цикла, в полубессознательном состоянии, которому как нельзя лучше соответствовала тихая, торжественная, печальная музыка, звучавшая у меня в ушах. Но вот появились кормильцы и, сделав свое дело, ушли; я стал приходить в себя и камеру заполнили звуки реального мира.
Каждому из них отведено свое место во времени и в пространстве: стуку дверей, хлопанью кормушек... Но на этот раз происходит что-то странное: я слышу, или мне это только кажется, какую-то возню в коридоре, перешептывание, такое впечатление, что кто-то топчется у моей камеры и заглядывает в глазок...
Вдруг из противоположного конца коридора доносится лай, обрываемый командой мента. Что за ерунда? Мало им собак вокруг тюремного двора? Зачем пустили их внутрь? Но самое странное, и это я осознаю не сразу, что траурная мелодия не исчезла и после кормления, она продолжает звучать в ушах. "Да ее же передают по радио!" - вдруг соображаю я и тут же слышу драматический голос диктора: "Говорит Москва. Вчера после тяжелой болезни скончался... Кириленко? Черненко? Тихонов? - проносится у меня в голове ...Леонид Ильич Брежнев".
Брежнев?! Через полтора месяца моей голодовки его сердце не выдержало?
Хорошо помню, что именно эта недобрая мысль появилась у меня при известии о смерти очередного советского вождя, и объяснялась она не просто случайным всплеском черного юмора. Как ни стремился я к объективности при оценке своей борьбы, не позволяя себе, поддавшись распространенному тюремному синдрому, преувеличивать ее значение, ощущение, что я воюю со всей советской системой, никогда не покидало меня, а во время голодовки усилилось тысячекратно. Видя перед собой начальника тюрьмы, местных и республиканских прокуроров, убеждавших меня снять голодовку, я хорошо понимал, что борюсь не с ними. То зло, которому я пытался противостоять, олицетворяли в моих глазах их вожди. И вот в разгар поединка не выдержал самый главный из них! Судьба посылала мне знак: держись - и ты победишь.
- Ура! - крикнул вдруг кто-то в соседней камере, и этот торжествующий клич в мгновение ока подхватила вся тюрьма. Вот тут-то и выяснилось, что мы и впрямь на осадном положении: вертухаи стали заглушать нас ударами дубинок по железу, а вскоре одна за другой начали открываться двери камер. Дошла очередь и до моей. Ввалились четверо: офицер, два прапорщика и солдат с овчаркой на поводке.
- Предупреждаю, - заявил офицер, - за антисоветские выкрики будем строго наказывать!