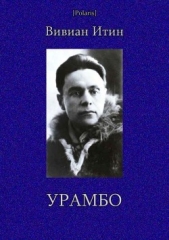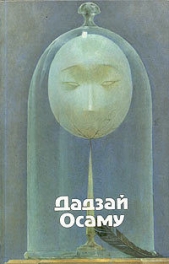Избранные произведения. Том 2

Избранные произведения. Том 2 читать книгу онлайн
Второй том Избранных произведений С. М. Городецкого составляют его прозаические сочинения: романы «Сады Семирамиды» и «Алый смерч», повести: «Сутуловское гнездовье», «Адам», «Черная шаль», рассказы, статьи, литературные портреты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чужой ему внутренне, я имел счастье и радость начинать свою литературную работу под непосредственным его влиянием. Под солнцем нашей молодости была какая-то общая узкая тропа, где-то в снежных лесах Сольвейг или на весенних проталинах, где прыгает болотный попик, может быть, в болезненно-нежной и наивно-мистической атмосфере «Тропинки» — детского журнала, издаваемого Поликсеной Соловьевой, сестрой философа, куда Блок прежде всего меня направил и где он сам чувствовал себя хорошо. Во всяком случае, моя память при всей ясности дальнейшего разлада, резко определившегося в последней встрече, любовно хранит начало нашей работы, почти одновременное.
И я хочу вспомнить юность и воскресить незабываемо-прекрасный образ молодого Блока — остальную же его жизнь осветить лучами его юности.
У меня нет сейчас его писем, и я не хочу писать «биографическую канву», я считаю первым долгом восстановить и сохранить его ранний лучистый образ. Как он встал передо мной нынешней осенью, на море, в мучительный момент известия о его смерти.
Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по сербскому языку профессора Лаврова. Я переходил на третий курс, он, должно быть, был на четвертом.
В старинном здании Петербургского университета — двенадцати коллегий — есть замкнутые, очень солнечные маленькие аудитории, где читают профессора, которых не слушают. Таким и был Лавров, читавший предмет обязательный, но скучный. Толстый, красный, сонный, он учил нас сербскому языку и читал нам былины. В сербском языке в прошедшем времени «л» переходит в «о»: «мойя майко помамио» — получается какой-то голубиный лепет. Блоку это нравилось, мне тоже, и, кажется, на этот именно предмет мы обменялись с ним первой фразой. Он ходил в аккуратном студенческом сюртуке, всегда застегнутом, воротник был светло-синий (мода была на темные), волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь он был чистый, светлый, я бы сказал, изолированный от лохмачей так же, как и от модников. Студентов было очень мало. Блок лекций не пропускал и аккуратно записывал все, что говорил Лавров, в синие гимназические тетрадки. Я ходил редко, и Блок мне передал свои записки — несколько тетрадок должны быть в моем архиве в Петербурге, если он цел. Там ранним его почерком записана вся сербская премудрость.
Не помню как, но очень скоро выяснилось, что мы оба пишем стихи. Наметилась близость. Скоро я услышал Блока в литературном кружке приват-доцента Никольского, где читали еще Семенов и Кондратьев, будущие поэты. Ничего не понял, но был сразу и навсегда, как все, очарован внутренней музыкой блоковского чтения, уже тогда имевшего все свои характерные черты.
Этот голос, это чтение, может быть единственное в литературе, потом наполнилось страстью — в эпоху «Снежной Маски», потом мучительностью — в дни «Ночных Часов», потом смертельной усталостью — когда пришло «Возмездие». Но ритм всю жизнь оставался тот же и та же всегда была напряженность горения. Кто слышал Блока, тому нельзя слушать его стихи в другом чтении. Одна из самых больных мыслей при его смерти: «Как же голос неизъяснимый не услышим? Записан ли он фонографом?»
Кружок собирался в большой аудитории — в старом здании во дворе университета. Все сидели за длинным столом, освещаемом несколькими зелеными лампами. Тени скрадывали углы, было уютно и ново. Лысый и юркий Никольский, почитатель и исследователь Фета, сам плохой поэт, умел придать этим вечерам торжественную интимность. Но Блока не умели там оценить в полной мере. Пожалуй, больше всех выделяли Леонида Семенова, поэта талантливого, но не овладевшего тайной слова, онемевшего, как Александр Добролюбов, и сгинувшего где-то в деревнях.
Встречи с Блоком в университете всегда мне были радостны. Правда, болтливой студенческой беседы с ним никогда не выходило, но он умел простым словам придавать особую значительность. По типу мышления он с ранних лет был подлинным символистом. Бодлеровские «корреспондансы» я постиг впервые у него.
Летние вакации нас разлучили — он уехал в Шахматове, на станцию Подсолнечная, записав мне свой адрес, и за лето мы обменялись несколькими письмами. Осенью мы встретились уже у него в Петербурге.
Он жил тогда в Гренадерских казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о Прекрасной Даме, где дается антитеза первому облику Девы, тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост — не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, — дает вид в одну сторону на блестящий город, в другую — на фабрики. По казенным лестницам и коридорам я пробегал к высокой каменной двери, за которой открывалась квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире две незабвенных комнаты, где жил Блок.
Я их помню наизусть.
Первая — длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то Достоевский, белая, с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Айседоры Дункан, «Мона Лиза» и «Мадонна» Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в этой первой комнате Блока. Вторую я не любил — большая, с мягкой мебелью, обыкновенная.
Навстречу выходил Блок, в длинной рабочей куртке с большим белым воротником, совсем не студент, а флорентиец раннего Ренессанса, и его Прекрасная Дама, тоже как со старинной картины, в венецианских волосах. Потом переходили в гостиную и столовую. Приходили Андрей Белый и Евгений Иванов, Татьяна Гиппиус. За чаем начиналась беседа, читались стихи. О чем говорили? Некоторые темы помню: например, о синтезе искусства. Я участвовал и понимал, поскольку беседа была общей, поскольку говорили и Евгений Иванов, и Александра Андреевна. Но вдруг Белый и Блок уходили в туман и, уставившись друг на друга, подолгу говорили о чем-то своем, словами обыкновенными, но уже ассоциированными с особыми, им одним понятными переживаниями. Рождался мир образов, предчувствий, намеков, соответствий — та музыка слов, откуда вышли и «Симфонии», и все метаморфозы Прекрасной Дамы. Потом опять шли в белую келью и поздно расходились. Чудесно было бежать далеко домой по ночному городу с горячей головой.
Блок и тогда был чутким критиком. Я уверен, что он никогда и никого не оттолкнул из осаждавших его бесчисленных начинающих поэтов. Я писал тогда еще совершенно дрянные детские стихи и никому, кроме Блока, и нигде, кроме как у него, их не читал. И такого прямого и нежного толчка к развитию и творчеству, как от косноязычных реплик Блока, я никогда и позднее не имел, даже от самых признанных критиков — от них всего менее. И чрезвычайно тонко вселил он в меня благотворный скепсис к редакциям и уверенность в важности своего личного пути для каждого, когда я стал посылать стихи в редакции и их решительно нигде не брали в печать. Сам Блок уже напечатал свои стихи в «Новом пути». Помню, как я бегал в Публичную библиотеку читать лиловые книжки. Помню, как в университете Блок торжественно мне передал первую свою книжку с ласковой надписью — грифовское издание, с готическим рисунком на обложке, который я тут же опротестовал как ложь и несоответствие. Для литературного университета книжка была праздником. Молодежь догадалась о ее значении раньше, чем критика. Я упорно многого не понимал и требовал объяснений непонятных мест, совсем как знаменитые критики того времени. Блок ничего объяснить не мог и только улыбался своей безмятежной и каменной улыбкой греческой статуи. Для него тогда был первый трудный период. К выходу книги уже определился раскол в его центральном образе, и небесные черты Девы, встреченной в храме, уже болезненно искажались, подготовляя образ Незнакомки. Райская чистота первых видений уже столкнулась с миром фабричных перекрестков. Поставленные в первой книге теза и антитеза расширялись и раздирали поверхностный синтез последнего стихотворения книги. Все юношеские муки мысли, ставшие известными только теперь, по недавно обнародованным стихам периода до Прекрасной Дамы, обнажались под первыми проблесками уже шедшей революции. Блок Прекрасной Дамы уже тогда спорил с Блоком «Двенадцати». И этот внутренний спор приходилось выдерживать ему и вести одному, потому что литературная атмосфера «Нового пути» и немного позднее «сред» Вячеслава Иванова старалась закрепить, зафиксировать, сделать стилем Блока только тезы, Блока — мистика деревенской церкви. В обоих лагерях критики, как шипящей, так и кадившей, не было ни одного голоса, который оценил бы и двинул Блока антитезы, Блока фабричных перекрестков. Теперь это может быть ясно всем — тогда это никому не было видно, и, если Блок пришел к «Двенадцати», — в этом его личный подвиг, в этом его величайшая победа.