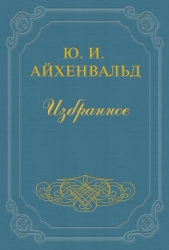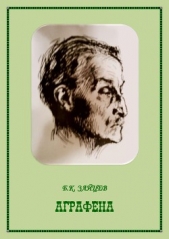Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я это, значит, оглоблю лажу, — рассказывал комиссар медленно и грустно, — а она вот как вот… И откуда ее принесло? Из‑под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?
— Ее надуешь! — сказал кривенький мужичонко Кузька. — Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Пря–ямо… Из ноздрей огонь. Что твой скакун.
— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие, — бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеич, — и этим решил дело.
Постановили земли дать, на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.
Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.
— Видишь, как чешет, — сказал Кузька. — За ней на мерине не угонишься.
Авдотья быстро скрылась–во мгле.
II
«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда‑то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты» и, в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владения, заглядывала в амбар, половину которого — в награду за боевые заслуги -— увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику–соседу кое‑что из старья и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все, как по–старому.
Когда в один прекрасный день Авдотья со слепою бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, некогда очень красивые, глаза привыкли все принимать как должное.
— Еще одна пан–сионерка у нас появилась, — сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы. — В молочной будет жить.
Варвара Андреевна произносила «пан–сионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.
— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода… Может, любила кого, замуж выходила…
— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.
Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы, — так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно, было то, что мать безразлична к вере.
Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».
— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь, — кричала она мужским голосом, — да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать? Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай лопает, у–у, вредная стерва…
Стерва безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.
На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела, и сразу почувствовала тошноту.
— Что вы делаете, Авдотья…
Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».
И отскочила от бабки.
— Да я, милок, я это маленько… только что поучила… У–y, она вредная… вы ее, барыня, не знаете.
— Да ведь она вам мать…
— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала… Ты чего, паршук, смотришь? — крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку. — Я тебе задницу‑то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот…
— Мама сука… — Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стреканул ко флигелю.
Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется, — и, махнув рукой, пошла к себе во флигель.
Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.
— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты…
— Ах, мама… бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит…
— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот, придет ко мне, я ей такой реприманд [263] сделаю…
Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда костлявою рукой, резко дернувши входную дверь, она вошла с мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.
— Як вашей милости, матушка барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая… на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится.
Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.
— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри…
— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь‑то не дралась, я смирная бабочка.
— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется…
Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться…
Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Соображает ли о том, что самое Варвару‑то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно — Авдотья Удаляется покорно. Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задумчиво, с сумрачным недоумением.
После ужина мать в столовой под висячей лампою раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:
— Знаешь, когда она так шагает, и с этою палкой… ну, точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.
Варвара Андреевна, из‑под пенсне, поднимает на нее красивые и строгие глаза:
— Ну, какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.
III
Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище, под белым березовым крестом. Зимний ветер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась, и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.