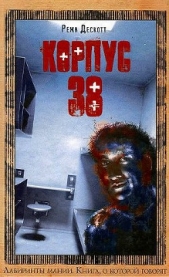Раковый корпус
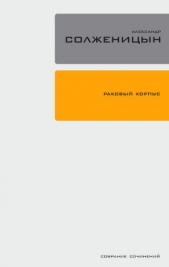
Раковый корпус читать книгу онлайн
В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.
В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда утюг лёг в мешок, плечи сразу почувствовали. Уже становилось душно ему в шинели, и надо было скорей выходить из универмага.
Но тут он увидел себя в огромном зеркале от пола до потолка. Хотя неудобно мужчине останавливаться себя рассматривать, но такого большого зеркала не было во всём Уш-Тереке. Да в таком зеркале он себя десять лет не видел. И пренебрегая, что там подумают, он осмотрел себя сперва издали, потом ближе, потом ещё ближе.
Ничего уже военного, как он себя числил, в нём не осталось. Только отдалённо была похожа эта шинель на шинель и эти сапоги на сапоги. К тому ж и плечи давно ссутуленные, и фигура, неспособная держаться ровно. А без шапки и без пояса он был не солдат, а скорее арестант беглый или деревенский парень, приехавший в город купить и продать. Но для того нужна хоть лихость, а Костоглотов выглядел замученным, зачуханным, запущенным.
Лучше б он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался себе лихим, боевым, на прохожих смотрел снисходительно, и на женщин как равный. А теперь, ещё с этим мешком ужасным за спиной, не солдатским давно, а скорее сумою нищенской, ему если стать на улице и руку протянуть – будут бросать копейки.
А ведь ему надо было к Веге идти… Как же идти к ней таким?
Он переступил ещё – и попал в отдел галантерейный или подарочный, а в общем – женских украшений.
И тогда между женщинами, щебетавшими, примерявшими, перебиравшими и отвергавшими, этот полусолдат-полунищий, со шрамом по низу щеки, остановился и тупо застыл, рассматривая.
Продавщица усмехнулась – что он там хотел купить своей деревенской возлюбленной? – и поглядывала, чтоб чего не спёр.
Но он ничего не просил показать, ничего не брал в руки. Он стоял и тупо рассматривал.
Этот отдел, блистающий стёклами, камнями, металлами и пластмассой, стал перед его опущенным быковатым лбом как шлагбаум, намазанный фосфором. Шлагбаума этого лоб Костоглотова не мог перешибить.
Он – понял. Он понял, как это прекрасно: купить женщине украшение и приколоть к груди, набросить на шею. Пока не знал, не помнил – он был не виноват. Но сейчас он так пронзительно это понял, что с этой минуты, кажется, уже не мог прийти к Веге, ничего ей не подаря.
А и подарить ей он не мог бы и не смел бы – ничего. На дорогие вещи нечего было и смотреть. А о дешёвых – что он знал? Вот эти брошки не брошки, вот эти узорные навесики на булавках, и особенно вот эта шестиугольная, со многими искрящимися стекляшками, – ведь хороша же?
А может быть – совсем пошла, базарна?.. Может, женщина со вкусом постыдится даже в руки такую принять?.. Может, таких давно уже не носят, из моды вышли?.. Откуда знать ему, что носят, что не носят?
И потом как это – прийти ночевать и протянуть, коснея, краснея, какую-то брошку?
Недоумения одно за другим сшибали его, как городошные палки.
И сгустилась перед ним вся сложность этого мира, где надо знать женские моды, и уметь выбирать женские украшения, и прилично выглядеть перед зеркалом, и помнить номер своего воротничка… А Вега жила именно в этом мире, и всё знала, и хорошо себя чувствовала.
И он испытал смущение и упадок. Если уж идти к ней – то самое время идти сейчас, сейчас!
А он – не мог. Он – потерял порыв. Он – боялся.
Их разделил – Универмаг…
И из этого проклятого капища, куда недавно вбегал он с такой глупой жадностью, повинуясь идолам рынка, – Олег выбрел совсем угнетённый, такой измученный, как будто на тысячи рублей здесь купил, будто в каждом отделе что-то примерял, и ему заворачивали, и вот он нёс теперь на согбенной спине гору этих чемоданов и свёртков.
А всего только – утюг.
Он так устал, словно уже многие часы покупал и покупал суетные вещи, – и куда ж делось то чистое розовое утро, обещавшее ему совсем новую прекрасную жизнь? Те перистые облака вечной выделки? И ныряющая ладья луны?..
Где ж разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу? В Универмаге… Ещё раньше – пропил с вином. Ещё раньше проел с шашлыком.
А ему надо было посмотреть цветущий урюк – и сразу же мчаться к Веге…
Стало тошно Олегу не только глазеть на витрины и вывески, но даже и по улицам толкаться среди густеющего роя озабоченных и весёлых людей. Ему хотелось лечь где-нибудь в тени у речки и лежать-очищаться. А в городе куда он мог ещё пойти – это в зоопарк, как Дёмка просил.
Мир зверей ощущал Олег как-то более понятным, что ли. Более на своём уровне.
Ещё оттого угнетался Олег, что в шинели ему стало жарко, но и тащить её отдельно не хотелось. Он стал расспрашивать, как идти в зоопарк. И повели его туда добротные улицы – широкие, тихие, с тротуарными каменными плитами, с раскидистыми деревьями. Ни магазинов, ни фотографий, ни театров, ни винных лавок – ничего тут этого не было. И трамваи гремели где-то в стороне. Здесь был добрый тихий солнечный день, насквозь греющий через деревья. Прыгали «в классы» девочки на тротуарах. В палисадниках хозяйки что-то сажали или вставляли палочки для вьющихся.
Близ ворот зоопарка было царство детворы – ведь каникулы, и день какой!
Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым – был винторогий козёл. В его вольере высилась скала с крутым подъёмом и потом обрывом. И вот именно там, передними ногами на самом обрыве, неподвижно, гордо стоял козёл на тонких сильных ногах, а с рогами удивительными: долгими, изогнутыми и как бы намотанными виток за витком из костяной ленты. У него не борода была, но пышная грива, свисающая низко по обе стороны до колен, как волосы русалки. Однако достоинство было в козле такое, что эти волосы не делали его ни женственным, ни смешным.
Кто ждал у клетки винторогого, уже отчаялся увидеть какое-нибудь передвижение его уверенных копытец по этой гладкой скале. Он давно стоял совершенно как изваяние, как продолжение этой скалы; и без ветерка, когда и космы его не колыхались, нельзя было доказать, что он – жив, что это – не надувательство.
Олег простоял пять минут и с восхищением отошёл: так козёл и не пошевелился! Вот с таким характером можно переносить жизнь!
А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у клетки, особенно ребятишек. Что-то металось там бешено внутри, металось, но на одном месте. Оказалось, вот это кто: белка в колесе. Та самая белка в колесе, из поговорки. Но в поговорке всё стёрлось, и нельзя было вообразить – зачем белка? зачем в колесе? А здесь представлено это было в натуре. В клетке был для белки и ствол дерева, и разбегающиеся сучья наверху – но ещё при дереве было коварно повешено и колесо: барабан, круг которого открыт зрителю, а по ободу внутри шли перекладинки, отчего весь обод получался как замкнутая безконечная лестница. И вот, пренебрегая своим деревом, гонкими сучьями в высоту, белка зачем-то была в колесе, хотя никто её туда не нудил и пищей не зазывал, – привлекла её лишь ложная идея мнимого действия и мнимого движения. Она начала, вероятно, с лёгкого перебора ступенек, с любопытства, она ещё не знала, какая это жестокая, затягивающая штука (в первый раз не знала, а потом тысячи раз уже и знала – и всё равно!). Но вот всё раскручено было до бешенства! Всё рыженькое веретённое тело белки и иссиза-рыжий хвостик развевались по дуге в сумасшедшем беге, перекладинки колёсной лестницы рябили до полного слития, все силы были вложены до разрыва сердца! – но ни на ступеньку не могла подняться белка передними лапами.
И кто стояли тут до Олега – всё так же видели её бегущей, и Олег простоял несколько минут – и всё было то же. Не было в клетке внешней силы, которая могла бы остановить колесо и спасти оттуда белку, и не было разума, который внушил бы ей: «Покинь! Это – тщета!» Нет! Только один был неизбежный ясный выход – смерть белки. Не хотелось до неё достоять. И Олег пошёл дальше.
Так двумя многосмысленными примерами – справа и слева от входа, двумя равновозможными линиями бытия, – встречал здешний зоопарк своих маленьких и больших посетителей.
Шёл Олег мимо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с красными и синими перьями. Полюбовался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой и золотой бахромою. После одноцветной ссылки, одноцветной больницы глаз пировал в красках.