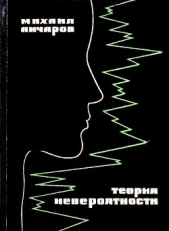Самшитовый лес. Этот синий апрель... Золотой дождь

Самшитовый лес. Этот синий апрель... Золотой дождь читать книгу онлайн
Михаил Анчаров известен российским читателям прежде всего как прекрасный поэт, стоящий у истоков движения песни. Многим памятны его работы на телевидении, - в частности, популярный телесериал "День за днем". Однако пришло время вспомнить и о том, что Михаил Анчаров был одним из крупнейших прозаиков своего времени. В однотомник писателя вошел его французский роман "Самшитовый лес", а также повести "Этот синий апрель…" и "Золотой дождь". Эти произведения, с нашей точки зрения, дают наиболее полное представление о ярком и самобытном прозаическом наследии М. Анчарова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А на станции Арысь я вышел из эшелона - медсестричка Дашенька сказала, что в ларьке на станции продают сушеную дыню, военным без очереди. Я вспомнил Гришку Абдульманова и пошел, и лучше бы не ходил. Потому что у ларька теснились молчаливые люди, которые меня сразу пропустили, как только я подошел и прикоснулся к спинам. Я ничего не понял и прошел к слепому стеклу витрины, за которой стояли бутафорские коробки от шоколадных конфет с матерчатыми цветами в светлом овале, и из черной дыры, пахнущей медом и керосином, мне за малые деньги дали три кило спутанных в комок липких желтых ремней. Я взял это и, обернувшись, увидел глаза, множество глаз, и ничего не понял. Потом меня кто-то взял за локоть и тихо зашептал что-то. Какой-то человек с интеллигентным лицом говорил непонятное и смотрел на мою покупку, и вдруг я понял, что это не сушеная дыня, а еда, и что ее дали только мне, потому что я военный бог, а они - обыкновенные штатские эвакуированные. А я военный, мне всюду и в поезде дают еду, а ведь я защищаю не только их родину, а и свою тоже.
Я отрывал и отрывал липкие ремни, совал в протянутые руки, отыскивал за головами темные глаза и давал туда, где рук не протягивали, а потом оказалось, что от трех кило осталась одна длинная липкая змейка и никто у меня ее не берет, а только отводят глаза, потому что понимают - я не Христос, а ефрейтор и не могу накормить всех сушеной дыней. Я попытался отщипнуть кусок, но ремень не поддавался и только скользил и вытягивался. Я неуверенно протянул его куда-то в сторону поднявшихся навстречу рук и отдал его в самые морщинистые. Еще несколько секунд все стояли вокруг меня, потом пожилой человек в кепке взял меня сзади за шею натруженными пальцами и униженно заплакал. И так, держа меня сзади за шею, как щенка, он повел меня к эшелону, и все потянулись за нами.
Странное чувство вины испытал я. Я - мальчишка, щенок, а они все взрослые, отцы и матери. Они привыкли давать, давать несчетно, а не брать. А тут вынуждены были взять и есть эту проклятую дыню, словно это милостыня. А я им не давал милостыни.
Разве можно дать милостыню отцу или матери? Нужно просто отдать им, если есть что отдать, как они отдавали тебе и позволили защищать их, когда они постарели.
Вот уже сколько лет прошло, я давно забыл многое когда-то важное, и лица забыл, и имена, и события, и счастье забыл, и горе, а вот кожа моя до сих пор помнит эту грубую руку у меня на шее и ее шершавые мозоли, и нежность помню к этой руке, нежность до слез.
Когда мне становится худо и я перестаю понимать - зачем я и для чего занимаюсь искусством, я вспоминаю сушеную дыню и понимаю, что работаю для того, чтобы ощутить на шее эту руку. Эту грубую рабочую руку, которая ведет меня вот уж столько лет и не велит сдаваться.
Глава 6
"УКРОТИТЕЛЬ ЗМЕЙ"
В самый первый день войны, в самый июньский ее вечер, когда еще не зажигали фонарей в Москве, я шел по безлюдной Семеновской. Фонарей в этот вечер долго не зажигали, и в сиреневых сумерках белели на стенах первые военные листовки, такие невозможные на мирной Благуше, где по вечерам только запах печеного хлеба из булочных и велосипедисты дуют из Измайлова с охапками сирени. А тут вдруг белые пластыри листовок на пустынной Семеновской и слова о каких-то немцах. При чем тут немцы? Это же Москва, при чем тут немцы! В этот вечер я ходил по всем местам своего детства, чтобы их запомнить, я понимал, что их надо запомнить. Потому что с. этого вечера все отменялось - и этот вечер, и все прошлые вечера, и мое детство, и все, что было. Я пришел в комнату, где было не светлей и не темней, чем на улице, и увидел рояль, непривычно закрытый, как гроб. Потому что обычно я бренчал на нем целые сутки, а особенно в сумерки, "в этот час мореплавателей, когда сердце говорит "прости" милым друзьям". Я открыл крышку, чтобы посмотреть, что там внутри, и увидел внутри живые белые клавиши, их веселый оскал, и меня охватили ярость и сопротивление тишине. "Какого черта, - подумал я, - почему мы должны себя оплакивать, если нас уже и так бомбят?! Пусть нас оплачут оставшиеся в живых, которые вспомнят наше веселье и нашу ярость! С каких пор в бой стали ходить без оркестра?!" И я стал наяривать фокстрот, потому что была первая половина двадцатого века и темп был его символом.
Ну, тут мне "дали жизни". Куда только девалась тишина! Я опомнился оттого, что раздались крики со двора. Я выглянул в окно и увидел троих жильцов с красными повязками. Именно этих троих я и ожидал увидеть. Они объяснили мне, сукину сыну, всю бестактность веселой музыки, когда народное горе. Я их хорошо знал, этих троих, - две хмурые бабы, общественницы, и мужчина с эскимосским профилем, я их хорошо знал и до войны, когда они запрещали хоккей во дворе, и после войны, когда они спекулировали пайковой водкой и справками с фиолетовой печатью домоуправления. Я и потом замечал, что больше всего орут насчет такта и народного горя те, кто бестактнее всего приторговывают именно народным горем. Я послал им в ихние сумерки воздушный поцелуй и выщелкнул из окна окурок. В военкомате у меня лежало заявление с красной резолюцией военкома: "Принять", и я завтра бестактно уходил в армию. Я вовсе не собирался оплакивать всю красоту, которая мне досталась за мои восемнадцать неполных лет, а, наоборот, собирался загрызть кого-нибудь из тех, кто с 22 июня сорок первого года собирался ее отменить.
Бетховен в самый тяжелый для себя момент написал, ломая белый грифель о черную доску: "Жизнь есть трагедия, ура!" Не в том смысле "Ура", что он приветствовал несчастья, а в том смысле, что трагедия - это всегда битва света против тьмы, а для художника - это битва красоты против уродства. Поэтому трагедия всегда оптимистична, и да здравствует эта битва! Нельзя дожидаться, пока все на свете устроится, чтобы тогда только начать ценить радость. Наслаждаться жизнью надо не после смерти, а до. Ханжи с тараканьими лицами болтают о "пире во время чумы".
Солдаты, ближе всех узнавшие эту чуму, отказывались смотреть ужас какие боевые киносборники номер такой-то и требовали бестолкового "Большого вальса" и "Веселых ребят". Потому что эти картины напоминали солдатам о вчерашних праздниках и обещали завтрашние. А за что и стоит драться, как не за веселье. Не за угрюмые же тараканьи радости!
В Фергане все перемешалось. Солнце и горе эвакуированных и местных и вечный их страх за своих близких, воевавших где-то там, в. ледяной пустыне. В Фергане вместо еды была баланда, и в желтой воде плавало девять стружек сушеного картофеля и два кружка сушеного помидора, и мыши цепочкой бежали вдоль глиняных дувалов. В ночных кустах стоял пулеметный треск соловьев, слетевшихся со всей России, и от запаха гигантских роз нельзя было спать. В Фергане в булочной по "карточкаси" можно было. получить двести граммов липкого хлеба в день, но в "Гастрономнинге" по довоенной цене продавали шампанское и в ларьках за "рупь" подносили пол-литра узбекского вина в стеклянной компотной банке.
И мы вчетвером взяли квадратный метр шампанского, потому что в одной теплой квартире, где местный учитель ушел на фронт, его мама выделила нам комнату с коричневым ломберным столиком размером метр на метр. Мы сегодня играли в футбол на земляном стадионе, окруженном черными кипарисами, сквозь которые пробивались лоскуты золотого заката, похожие на оранжевые листья, падавшие на стадион с близлежащих кустов. Мы, выздоравливающие, играли в футбол с мощным отрядом местной милиции и выиграли матч, и выиграли радость, и теперь были уверены, что на этот раз выиграли жизнь, а это не так уж мало, если на то пошло. И в этот же день должны были встречать новый, сорок третий, год, и нам, победителям, выдали увольнительные в город, чтобы мы могли выпить шампанского за здоровье всех своих близких.
И мы выпили метр на метр шампанского - трое гавриков и Галка, которая не вышла замуж ни за кого из нас, а вышла замуж за переводчика. С нами был Мустафа Абдуллаев, самый высокий демагог в нашем госпитале, бывший чемпион по боксу в своем весе среди студентов-историков города Баку. С ним мы еще в Москве в первые бомбежки ловили ракетчиков, сновавших вокруг МОГЭСа. Мы их должны были ловить голыми руками, потому что нам еще не успели выдать оружие, а только военную форму и пилотки со звездочками. И в одну бомбежку, когда в небе расцвела осветительная ракета на парашютике, и эхо зениток непереносимо лаяло во дворах-колодцах вокруг МОГЭСа, и визжали осколки и дети в убежищах, и счетверенные турельные пулеметы на крышах распарывали какое-то огромное сукно, мы с Мустафой Абдуллаевым погнались по улице Осипенко и поймали ракетчика, выпустившего в небо этот фонарь. Мы утюжили его в подворотне старого здания детского сада, пока не прибежали патрули и не поволокли его в отделение милиции. В это здание тут же угодила пятисотка, и когда мы с Мустафой поднялись с земли в подворотне детского сада, весь булыжник был усыпан белым порошком, это были стекла окон детского сада. От милиции ничего не осталось. Это отделение милиции было там, где теперь перед въездом на Котельнический мост разбит угловой скверик и стоят статуи пионеров и физкультурниц, выкрашенные алюминиевой краской. А Мустафа Абдуллаев потом умер от туберкулеза в пятьдесят шестом году.