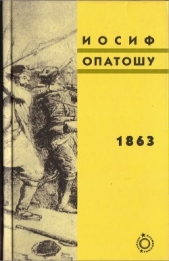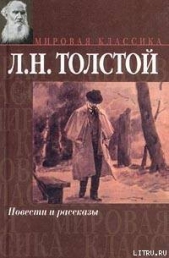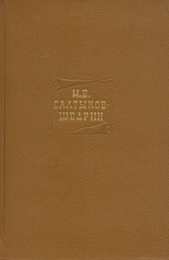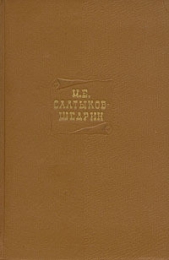Том 3. Произведения 1857-1863 гг

Том 3. Произведения 1857-1863 гг читать книгу онлайн
В том вошли повести и рассказы 1857–1863 гг. Среди них — «Альберт», «Три смерти», «Семейное счастие», «Казаки», «Поликушка» и др.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 1857 году Толстой совершает первое заграничное путешествие в Западную Европу, посещает Францию, Германию, Италию, Швейцарию.
И в Швейцарии он пишет рассказ «Люцерн», открывающий настоящий том. Случай, описанный в «Люцерне», произошел на глазах писателя, о чем сохранилась запись в его Дневнике: «[Люцерн] 7 июля… Ходил в privathaus [частный дом]. Возвращаясь оттуда, ночью — пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу… Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно» (т. 47, с. 140–141).
Рассказ был написан по горячим впечатлениям в несколько дней. В Дневнике Толстой отмечает: «[Люцерн-Зарнен] 11 июля… Дописал до обеда «Люцерн». Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного» (т. 47, с. 142).
Дневниковая форма произведения позволила автору передать чувства и мысли героя, как сиюминутную реакцию на происходящие события. Мысли эти не приняли еще строгой логической формы, они противоречивы, поскольку схвачены в момент зарождения, и в этой непосредственности своеобразие рассказа и его обаяние.
И по своему значению, как свидетельство духовных исканий Толстого, «Люцерн» приближается к дневнику и занимает особое место среди произведений этого периода. В рассказе отразилось не только становление мировоззрения писателя, но и обоснование его позиции.
«Люцерн» может служить блестящим примером точного и глубокого социального диагноза, когда писатель по самым незначительным приметам опознает опасную болезнь внешне благополучного и процветающего общества.
Вначале герой отмечает безвкусицу модного курорта, все строения которого имеют грубые негармоничные формы: четвероугольные пятиэтажные дома, прямая как палка набережная. Красота и гармония природы нарушены человеком. Мысль о несовместимости цивилизации и природы, очевидно, восходит к Руссо, на которого в черновом варианте была прямая ссылка: «Не смешной вздор говорил Руссо в своей речи о вреде цивилизации на нравы» (т. 5, с. 283). Когда же герой-рассказчик переходит к наблюдению над нравами курорта, он понимает, что и здесь нанесен ущерб природному, «потребности инстинктивной и любовной ассоциации».
Героя поражает свойственная людям «несообщительность», основанная «на отсутствии потребности сближения». Люди не испытывают друг к другу никакого интереса. Комфорт, спокойствие и «сознание собственного благосостояния» совершенно вытесняют «простое первобытное чувство человека к человеку».
В этом «равнодушии ко всякой чужой жизни» Толстой и видит зловещие симптомы социальной болезни, получившей в наше время название «отчуждение» и ставшей одной из центральных тем мировой литературы XX века. «И ведь все эти люди, — рассуждает герой, — не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, наслаждения человеком?»
Столетие спустя, когда отчуждение в буржуазном мире примет угрожающие формы, французский писатель Экзюпери почти дословно повторит мысль Толстого: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». [76]
Автор «Люцерна» смог разглядеть первые признаки болезни, проявив удивительную художническую проницательность, и не просто изобразил оскудение чувств в отношениях между людьми, но осознал всю значительность и новизну этого явления.
Часто в исследовательской литературе можно встретить интерпретацию рассказа, упрощающую проблему сведением его пафоса к разоблачению эгоизма богатых и сытых людей. При этом игнорируется вопрос, поставленный автором: «Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, в общем, на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело?»
Неспособность на «личное доброе дело» при готовности вообще на гуманное дело — вот что вызывает особую тревогу Толстого. Здесь автор «Люцерна» близок к Достоевскому, герой которого («Братья Карамазовы») отмечает тот же зловещий парадокс: «Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц». [77]
Толстой показал, как безобидное на первый взгляд равнодушие людей друг к другу за общим столом в иной ситуации легко оборачивается жестокостью. Подробно и документально точно рассказывает он, как 7 июля 1837 года в Люцерне нищему певцу не подал ни единого су ни один из слушавших его песни богатых клиентов фешенебельной гостиницы. Здесь обличительный пафос достигает апогея, автор обращается ко всему человечеству, и его голос обретает пророческую силу. «Вот событие, — говорит Толстой, — которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях».
В толстовских страстных выпадах против буржуазной цивилизации в «Люцерне» суммировались тяжелые заграничные впечатления писателя.
После посещения Дома инвалидов и могилы Наполеона Толстой в Дневнике записывает 4/16 марта 1857 года: «…Обоготворение злодея, ужасно» (т. 47, с. 118). 6/18 марта писатель был на бирже. «Биржа — ужас» (там же), — отмечает он. Но самый тяжелый и неизгладимый след в душе Толстого оставила смертная казнь, свидетелем которой он был в Париже 25 марта/6 апреля 1857 года: «Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица!» (там же, с. 121).
Непосредственная реакция писателя на зло — возмущение, которое и питает обличительный пафос «Люцерна». Но в заключительной части рассказа Толстой неожиданно ставит под сомнение собственную критику, ее правомерность.
«Бесконечна благость и премудрость того, — пишет он, — кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия».
Чувство негодования, должное привести к борьбе с нелепыми и несправедливыми порядками, сменяется чувством благодарности «Всемирному Духу», поскольку все противоречия оказываются только кажущимися человеку в силу ограниченности его точки зрения. Такая философия, в сущности, может оправдать любую нелепость, жестокость и несправедливость.
В работе «Л. Н. Толстой и его эпоха» В. И. Ленин писал: «В «Люцерне» (писано в 1857 году) Л. Толстой объявляет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», которое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре». «Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, — восклицает Толстой, — Всемирный Дух, проникающий нас». [78]
Разумеется, такое иллюзорное разрешение противоречий действительности не могло удовлетворить Толстого и было только кратким эпизодом его духовной биографии. Писатель обратился к гегелевской идее «бесконечной гармонии мира» в поисках выхода из мучительного состояния негодования и гнева. [79]
Впоследствии Толстой неизменно резко отрицательно отзывался о гегелевской философии и считал, что «Люцерн» был им самим «поиспорчен» идеей «гармонии мира». [80] Оспаривая какое-либо учение, Толстой опровергал не логический ход мысли, а жизненную позицию людей, следующих ему. В трактате «Так что же нам делать?» он подверг критике философскую теорию немецкого мыслителя за то, что выводы ее «потакали слабостям людей», так как из них следовало, «…что все, что существует, то разумно, что нет ни зла, ни добра, что бороться со злом человеку не нужно…» (т. 25, с. 331–332).