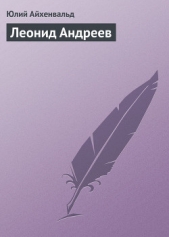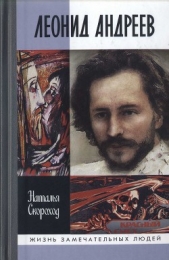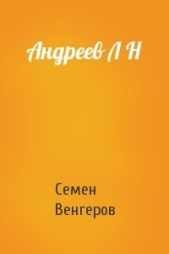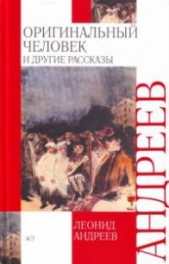Том 1. Рассказы 1898-1903

Том 1. Рассказы 1898-1903 читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли рассказы 1898–1903 гг.
Вступительная статья А.В. Богданова. Комментарии В.Н. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!
Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкою была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви — я убил бы себя. Это было решено, я помню.
И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.
Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!
Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.
— Это небольшой миллиончик, — сказал он, — но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.
И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:
— Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.
Не с этим ли миллионом я жил?
Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкалах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я, или нет, но с вашей точки зрения я негодяй, — посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку?!
Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру, — это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами — люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы. Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.
Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне Chloralamid'y в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. Это бесчестно — сводить с ума.
После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:
— Ну как, голубчик, здоровье?
Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.
Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие — научно-медицинское удостоверение моей болезни.
И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.
— Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич, — говорила Татьяна Николаевна.
Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.
— Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу, — покорно ответил я.
Мы втроем — Алексей был тут же — сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.
— Да, Антон, обязательно сходи, — авторитетно подтвердил Алексей. — А то наделаешь чего-нибудь такого.
— Но что же я могу «наделать»? — робко оправдывался я перед своим строгим другом.
— Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.
Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея, и спрашивал:
— Голову? Ты говоришь — голову?
— Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.
Это становилось интересно. Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет. Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников, — какая чепуха!
— Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью, — сказал я. — Она слишком легка.
— Что ты говоришь: легка! — возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул. — Попробуй!
— Да я же знаю…
— Нет, ты возьми вот так и увидишь.
Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:
— Алексей, оставь! Алексей, оставь!
— Что ты, Таня? Что с тобой? — изумился он.
— Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие штуки.
Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.
У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое знание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.
Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое — это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой, — вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.