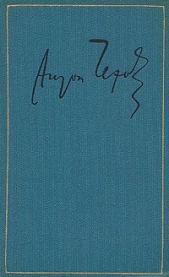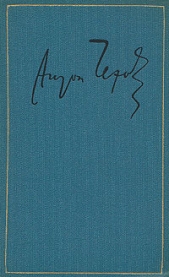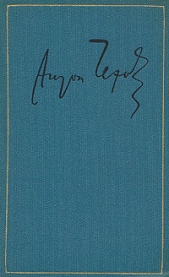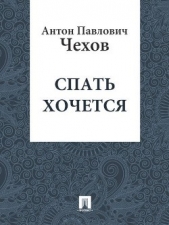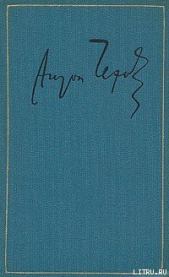Том 7. Рассказы, повести 1888-1891
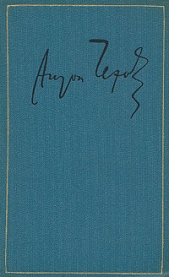
Том 7. Рассказы, повести 1888-1891 читать книгу онлайн
Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах — первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым.
В седьмой том входят рассказы и повести 1888–1891 годов.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — всё показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю; пожил он с нею меньше месяца и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А всё-таки без нее скучновато.
«Надо ей письмишко написать»… — думал он.
Флаг на духане размок от дождя и повис, и сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон.
Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе… Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню.
«Славная голова! — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене. — Хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть…»
За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: «лопаешь, а работать не хочешь», не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной — неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождения, вымирания, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга…
Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих: Лаевского, Шешковского и начальника почтово-телеграфной конторы.
— Стоп! — сказал Шешковский.
Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга.
— Их еще нет, — сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. — Что ж? Пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде.
Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы; с деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры.
— Срамота! — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. — Знал бы, не пошел.
Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне; его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы.
«Странно… — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. — Будто старик».
— Как это невежливо с их стороны! — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. — Может быть, по-ученому, и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.
Шешковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал:
— Едут!
— Первый раз в жизни вижу! Как славно! — сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. — Посмотрите: зеленые лучи!
На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это, в самом деле, было красиво. Восходило солнце.
— Здравствуйте! — продолжал зоолог, кивнув головой секундантам Лаевского. — Я не опоздал?
За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад; по обыкновению, вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне.
Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его; всё это не имело никакой связи с пережитою ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.
Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.
— Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем, — сказал Шешковский. — И здесь ладно.
— Да, конечно, — согласился фон Корен.
Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо:
— Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников оставшийся в живых платит все 30.
Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор! Дыхание его имело неприятный, говяжий запах.
«Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил:
— Хорошо.
Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковский подошел к ним и сказал тихо:
— Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их.
Он покраснел и продолжал:
— Вчера у меня был Кирилин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука.
— Да, нам тоже это известно, — сказал Бойко.
— Ну, вот видите ли… У Лаевского дрожат руки и всякая штука… Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли… Такая чертовщина, что не глядел бы.
— Вы поговорите с фон Кореном.
— Я правил дуэли не знаю, чёрт их подери совсем, и знать не желаю; может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А, впрочем, как ему угодно, я поговорю.