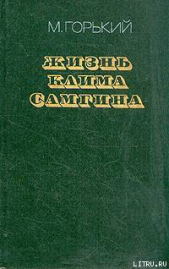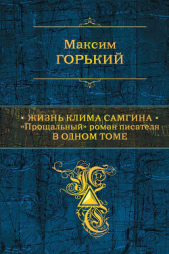Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4

Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 читать книгу онлайн
В двадцать второй том собрания сочинений вошла четвертая часть «Жизни Клима Самгина», не вполне законченная автором и впервые опубликованная после его смерти Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А разве такие беседы допускаются?
— Какие? — наивно спросил Харламов, но Клим Иванович понял, что наивность искусственна.
— Беседы со штатскими?
— Смотря по тому — о чем? — усмехаясь, сказал Харламов. — Например: о социализме — не велят беседовать. О царе — тоже.
— Ах, вот что! Он — об этом?
— Нет, — серьезно и быстро возразил Харламов. — Я не сказал, что именно об этих вопросах. Он — о различных мелочах жизни, интересных солдатам.
— А офицера относятся к нему отрицательно? — спросил Самгин.
— Да. Как вообще к штатским.
— Однако не каждого подозревают в шпионстве, — сухо сказал Самгин и — помимо желания — так же сухо добавил: — Я знал его, когда он был товарищем прокурора.
— Вот как! — вполголоса произнес Харламов. Через два часа после этой беседы Самгин видел, как Тагильского убили. Самгин пил чай в бараке — столовой офицеров. В длинном этом сарае их было человек десять, двое сосредоточенно играли в шахматы у окна, один писал письмо и, улыбаясь, поглядывал в потолок, еще двое в углу просматривали иллюстрированные журналы и газеты, за столом пил кофе толстый старик с орденами на шее и на груди, около него сидели остальные, и один из них, черноусенький, с таяиечьизд лицом, что-то вполголоса рассказывал, заставляя старика усмехаться. Он только что кончил беседовать с ротмистром Рущиц-Стрыйским, человеком такого богатырского объема, что невозможно было вообразить коня, верхом на котором мог бы ездить этот огромный, тяжелый человек. Череп его оброс густейшей массой седых курчавых волос, круглое, румяное лицо украшали овечьи глаза, красный нос и плотные, толстые, черные усы, красиво прошитые серебряной нитью. Выслушав Самгина, он сказал густейшим подземным голосом, добродушно и любезно:
— Бросьте, батенька! Это — дохлое дело. Еще раньше дня на три, ну, может быть… А теперь мы немножко танцуем назад, составы кормежных поездов гонят куда только возможно гнать, все перепуталось, и мы сами ничего не можем найти. Боеприпасы убирать надобно, вот что. Кое-что, пожалуй, надобно будет предать огню.
Именно в эту минуту явился Тагильский. Войдя в открытую дверь, он захлопнул ее за собою с такой силой, что тонкие стенки барака за спиною Самгина вздрогнули, в рамах заныли, задребезжали стекла, но дверь с такой же силой распахнулась, и вслед за Тагильским вошел высокий рыжий офицер со стеком в правой руке.
— Извольте ответить, — кричал он высоким голосом, топая ногами так, что даже сквозь шум в столовой, гулкой, точно бочка, был слышен звон его шпор.
— Прошу оставить меня в покое, — тоже крикнул Тагильский, садясь к столу, раздвигая руками посуду. Самгин заметил, что руки у него дрожат. Толстый офицер с седой бородкой на опухшем лице, с орденами на шее и на груди, строго сказал:
— Прошу не шуметь! В чем дело?
У рыжего офицера лицо было серое, с каким-то синеватым мертвенным оттенком, его искажали судорожные гримасы, он, как будто от боли, пытался закрыть глаза, но глаза выкатывались.
— Вчера этот господин убеждал нас, что сибирские маслоделы продают масло японцам, заведомо зная, что оно пойдет в Германию, — говорил он, похлестывая стеком по сапогу. — Сегодня он обвинил меня и капитана Загуляева в том, что мы осудили невинных…
— Да, — крикнул Тагильский, подскочив на стуле. — Вы расстреляли сумасшедших, а не дезертиров.
— Молчать! — свирепо крикнул толстый офицер. — Кто вам дал право…
— Таких дезертиров здесь — десятки, вон они ходят! Это — больные. Они — обезумели. Они не знают, куда…
Остались сидеть только шахматисты, все остальное офицерство, человек шесть, постепенно подходило к столу, становясь по другую сторону его против Тагильского, рядом с толстяком. Самгин заметил, что все они смотрят на Тагильского хмуро, сердито, лишь один равнодушно ковыряет зубочисткой в зубах. Рыжий офицер стоял рядом с Тагильским, на полкорпуса возвышаясь над ним… Он что-то сказал — Тагильский ответил громко:
— Да. Я — юрист и отдаю себе отчет в том, что говорю. Именно так: убийство психически невменяемых…
Офицер взмахнул стеком, но Тагильский подскочил и, взвизгнув: «Не сметь!» — с большой силой толкнул его, офицер пошатнулся, стек хлопнул по столу, старик, вскочив, закричал, задыхаясь:
— Ротмистр Рущиц…
В эту секунду хлопнул выстрел. Самгин четко видел, как вздрогнуло и потеряло цвет лицо Тагильского, видел, как он грузно опустился на стул и вместе со стулом упал на пол, и в тишине, созданной выстрелом, заскрипела, сломалась ножка стула. Затем толстый негромко проговорил:
— Эх, капитан Вельяминов, всегда вы… Рыжий офицер положил на стол револьвер, расстегнул портупею, снял саблю и ее положил на стол, вполголоса сказав Рущицу:
— К вашим услугам, ротмистр…
— Как это вы не удержали! — негромко, но сердито спросил толстый.
— Виноват, — сказал Рущиц, тоже понизив голос, отчего он стал еще более гулким. Последнее, что осталось в памяти Самгина, — тело Тагильского в измятом костюме, с головой под столом, его желтое лицо с прихмуренными бровями…
Самгину казалось, что, если он попробует подняться со стула, так тоже упадет.
«Я не первый раз вижу, как убивают», — напомнил он себе, но это не помогло, и, согнувшись над столом, он глотал остывший, противный чай, слушая пониженные голоса.
— Разве к штатским применим военно-полевой суд?
— Что это вы, друг мой? А как судили революционеров в шестом, седьмом…
— Ах, да! Я забыл.
— Главное — огласка..
— Солдаты…
Самгин не заметил, как рядом с ним очутились двое офицеров и один из них сказал:
— Мы все, во главе с генералом, просим вас не разглашать этот печальный случай.
— Да. Я — понимаю.
Они заговорили в два голоса:
— По крайней мере — здесь.
— А особенно — среди нижних чинов.
— Я не общаюсь с солдатами, — сказал Самгин.
— Можно объяснить самоубийством, — ласково предложил один из офицеров, а другой спросил:
— Вы знали этого человека?
— Да, знал.
— Он ведь в одном Союзе с вами?
— Близко знали?
— Нет, не близко, — ответил Самгин и механически добавил: — Года за полтора, за два до этого он действительно покушался на самоубийство. Было в газетах.
— Это — замечательно! — с тихой радостью сказал один, а другой в таком же тоне прибавил:
— Великолепно! Не помните, какая газета, когда?
— Нет, не помню.
— Это — жалко! Итак — ваше слово?
— Да, да, — сказал Клим Иванович. Затем один из них сказал, шаркнув ногой:
— Честь имею!
Другой — тоже шаркнул, но молча, и оба очень быстро отошли к своему столу.
Самгин встал, вышел из барака, пошел по тропе вдоль рельс, отойдя версты полторы от станции, сел на шпалы и вот сидел, глядя на табор солдат, рассеянный по равнине. Затем встал не легкий для Клима Ивановича вопрос: кто более герой — поручик Петров или Антон Тагильский?
Убийство Тагильского потрясло и взволновало его как почти моментальное и устрашающее превращение живого, здорового человека в труп, но смерть сына трактирщика и содержателя публичного дома не возбуждала жалости к нему или каких-либо «добрых чувств». Клим Иванович хорошо помнил неприятнейшие часы бесед Тагильского в связи с убийством Марины.
«Он вел тогда какую-то очень темную и оскорбительную игру со мной. Он типичный авантюрист, но неудачник, и вполне естественно, что, в своем стремлении к позе героической, он погиб так нелепо».
Вспомнилось, как после разгрома армии Самсонова на небольшом собрании в квартире весьма известного литератора Тагильский говорил:
— Я принадлежу к числу интеллигентов, пролетаризированных более, чем любой рабочий. Обладая даже и не очень высокой технической квалификацией, мастеровой человек не только хозяин своей физической энергии, но и человек, который может ценить свои технические знания как некую правду, как явную полезность. Я квалифицирован как юрист, защитник общества против покушений на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок, представьте, что я чувствую порядок этот враждебным мне? Уродующим меня?