Сумерки божков
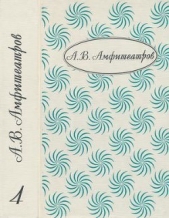
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, стремление — так сказать — s’encanailler [397] у нее непреоборимое. Но разве это отрицает мои слова? Напротив, подтверждает. Если ребенок вместо молока, мяса, хлеба начинает пожирать мел, уголь, испражнения, я знаю, что ребенок болен, и обязан поставить его под опеку постоянного наблюдения, которое не допустит его до всей этой гадости и заставит питаться нормальною пищею.
— Для взрослых детей опека опоздала. Нану переделывать поздно на пятом десятке лет. Не младенец.
— Хуже младенца, потому что детский организм, развиваясь годами, прогрессирует и оздоровляется, а субъект, одержимый нравственным помешательством, moral insanity [398] в состоянии только назад пятиться и разрушаться. Что я считаю Надежду Филаретовну совершенно пропащим человеком, это я готов повторить, сколько тебе угодно раз. Но собачьей смерти я ей отнюдь не желаю. А ты своею, извини меня, трусливою деликатностью готовишь ей именно собачью смерть. И — когда стрясется такая беда — будет это позорно и громко, а тебе — стыдно и вредно.
Берлога усмехнулся почти злобно.
— То-то вот и есть, друг Самуил Львович, то-то вот и противно мне, что даже теперь мы с тобою — ты сам не замечаешь, как — лицемерим! Совсем не за Надежду Филаретовну эта возможность собачьей смерти нас пугает, но — что собачья смерть мадам Берлоги на живого мосье Берлогу скверную тень бросит, его величие унизит, благородство подсалит и осрамит…
Он сел верхом на угол письменного стола своего и обратился к Аристонову:
— Вам Надежда Филаретовна показалась сумасшедшею?
— Нет. Не больше, чем всякий пьяный человек.
— То-то вот и есть. И никто из нас ее сумасшедшею не видал. И, когда трезвая, так-то она всех нас, умников, логикою своею вокруг пальца вертит…
Аухфиш перебил:
— Lucida intervalla! Folie raisonnante! [399] Наука это противоречие давно разрешила, меня им не убедишь.
Берлога даже сморщился.
— Ах, оставь! Наука!., хороша наука, которая до сих пор не придумала для больных своих ничего кроме тюрем! И вся-то медицина — знахарству сестра родная, а психиатрию уж и вовсе — будто ведьма в остроге от тюремщика родила… колдовство пополам с неволею! Якобий прав, Самуил Львович. Психиатрия еще не выучилась лечить душевнобольных. Покуда она умеет только оберегать от них общество здоровых. [400] Так оно и есть. Вот мы битый час спорим о том, чтобы посадить Надежду Филаретовну в желтый дом. И оба отлично знаем, что желтый дом ее не вылечит, но убьет. А все-таки спорим, будто и впрямь собираемся лечить ее, будто преследуем и соблюдаем ее пользу. Ерунда, брат! Запереть Надежду Филаретовну значит не ее лечить от сумасшествия, но меня — от нее. Значит — забрать с улицы человека, неприятного и конфузного для великолепного господина Берлоги, и запереть его в одиночное заключение, подальше от глаз и языков человеческих. Ну нет! Мучить человека неволею только за то, что он воплощает в себе мой стыд и страх пред обществом, я не в состоянии, хотя бы Нана даже и впрямь была сумасшедшая. А я в ее безумие не верю и никогда не поверю.
— Сам ты после того сумасшедший! — проворчал Аухфиш.
Берлога подхватил:
— В той мере, как Надежда Филаретовна? Очень может быть. Клянусь тебе: мне самому часто бывает так тошно и срамно среди всего этого нашего довольства пошлого… от всех этих горшков, статуэток, бронз… от пиджака моего бархатного… от Настасьи великолепной… от поклонников-идиотов… от психопаток развратных… от критики фальшивой и завистливой… до того нестерпимо, что так бы вот взял — переколотил всю эту мразь, Тарасу Бульбе подобно, и пошел бы именно в Бобков трактир водку пить и, по старой памяти, петь песни с босяками!
— Однако не идешь же!
— Так — не по нежеланию, а по трусости! Хочется, да колется, и маменька не велит.
— Ага! То-то! Это не трусость, любезный друг, но работа задерживающих центров, способность регулировать свои желания прежде, чем они перейдут в действие. У кого регулятор воли работает — тот в здравом уме, у кого он слабеет — тот на пути к безумию. Мир управляется гедоническим знаменателем, милый Андрей Викторович. Если возможная сумма наслаждения ниже его нравственной стоимости, то ожидаемое удовольствие обращается в страдание и стыд, оказывается тебе невыгодным, и ты от него отрекаешься и воздерживаешься, как от безрасчетной сделки. Кто на эту расценку не способен, тот уже вычеркнут из нормы. Разум и совесть у него, значит, банкроты, и не годится он — для ответственности ни перед обществом, ни даже пред самим собою.
— Ну да, да! — перебил Берлога, — в пословице это — хоть и перевернуто вверх ногами — но гораздо проще и короче: «Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию». О подчинении удовольствия весам задерживающих центров хорошо говорить, ангел мой, с теми, у кого есть добрая зацепка в жизни, есть чем и ради чего волю свою задерживать. Не удивительно, что я в состоянии сдержать в себе босяцкий порыв, когда — вместо Бобкова трактира — могу пойти в театр и изобразить Фра Дольчино или Бориса Годунова, что ли. Как искусством-то напитаешься и со всех сторон окружишься, уж оно тебя в жертву хаосу твоему внутреннему не отдаст. Талант может блажить, безобразничать, умалять себя, губить, в грязи влачиться, но — врешь! от самого себя никуда не уйдет, дороже самого себя ничего не найдет и, в какую пропасть ты его ни кинь, он к самому себе вернется! Ну — а у бедной Наны зацепок нет и не бывало… Человек с огромными способностями и без всякой в них надобности. Как спокойно жить, как в вине ума не топить, когда сознаешь, что ты — не ты, а только форма и маска твоя? когда уверена, что вместо крови человеческой по жилам твоим бежит отравленная грязь? когда чувствуешь, что вот-вот вскипит эта грязь и выльется наружу пред всем белым светом?.. Хорошо рассуждать, когда не носишь в себе отравы прирожденной. Вот я вам, Аристонов, давеча говорил, что не хочу и не позволю отдать себя во власть угрозам фатальным. А ведь эта Нана несчастная — она вся — воплощенное сознание обреченности! Цинизм висельника, который кривляется, чтобы не так страшно было умирать, а сам тем временем ничего, кроме петли, не помнит и ни во что, кроме петли, не верит.
Он был очень взволнован. Аристонов глядел на артиста с пытливым участием, взор его смягчился.
— Не тому я теперь удивляюсь и негодую, что она меня бросила и во все тяжкие пустилась, — говорил Берлога, трепещущий, почти со слезами на глазах, — а тому, как она, уходя, сохранила еще ко мне теплое чувство какое-то, не возненавидела меня… Знаешь, этою лютою ревностью больного к здоровому, завистью слабого к сильному, обреченного смерти к жизнерадостному. Страшно, милый мой Шмуйло, и оскорбительно, должно быть, такому вот человеку, как Нана, который жизнью-то, будто болотом зыбким бредет и ужаса полн, что — сам не знает где, но непременно вот-вот провалится, — обидно и горько ему, думать надо, жить рядом с фанатиком этаким, буйволом самоуверенным, как твой слуга покорнейший. Я, как нашел дорогу свою, так и попер по ней дроволомом беспопятным. Как ощутил силу свою, так и вознадеялся на себя паче, чем на Господа Бога в небесах. Я да мое вдохновение, и — сам черт мне не брат, и все города взяты, и все крепости — наши! Я, когда за что брался, то даже мысли такой в себе не допускал, что это у меня может не выйти. И все выходило. А Нана насчет себя не то что веры — даже иллюзии никакой не в состоянии сохранить хотя бы на полчаса времени… Какой материал богатейший пропал! Певица… актриса… женщина… умница… Ничего не вышло!
Аухфиш. Потому что была лентяйка… совершенно распущенный человек!
Берлога. А что такое лень? У кого — болезнь, усталость организма, недоразвитость физическая. Скольких лентяев я знавал, что, поглотавши железа либо мышьяку да сосновым лесом либо морем подышав, бодрость, подвижность и охоту к деятельности обретали. А у кого — именно вот отсутствие веры в себя, в призвание свое, в надобность и красоту того, что взялся делать. Людей без лени нету. И я, и ты, и вот он, Аристонов, — каждый ленив по-своему. Меня еще сегодня моя Настасья лежебоком ругала. Уж на что живая машина Мориц Раймондович Рахе, на что дисциплина воплощенная Елена Сергеевна Савицкая, а я убежден, что и они лень знают… Лени чужд только излюбленный труд. Какого-нибудь Фра Дольчино репетировать я не ленив. Ты человек больной, слабый, а торчишь в типографии до пяти часов утра, ныряешь в корректурах, как жучка — в рыхлом сене, что в волнах, скипидарными ароматами почки свои разрушаешь, потом человеческим легкие свои отравляешь… Веришь, что дело делаешь, понимаешь его, любишь, — ну и труд не в труд, и тягость не в тягость, и на здоровье наплевать. Этак, брат, работать — первое наслажденье в мире. Лучше, чем любимую женщину целовать. Потому что поцелуи надоедают и приедаются, а излюбленный труд пресыщения не знает. От-того-то, должно быть, — засмеялся он, — женщины и ревнуют так часто нашего брата к призванию… Много баб я любил, а все же ни одной настолько, чтобы ради нее репетицию пропустить, либо к спектаклю опоздать, либо на сцене о ней думать и помнить.
























