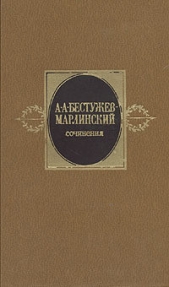Сочинения. Том 2
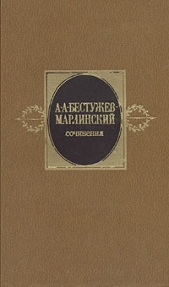
Сочинения. Том 2 читать книгу онлайн
А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные и публицистические произведения Бестужева, а также избранные письма.
Во втором томе «Сочинений» напечатаны повести «Фрегат „Надежда“», «Мореход Никитин» и др., очерки «Письма из Дагестана», избранные стихотворения, литературно-критические статьи и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но для чего нам распространяться о восточной словесности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть известна нам и потому не имела никакого влияния ни на классическую, ни на романтическую словесность. Заметим только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недосягаемому солнцу, живителю мира; он бездействует, но уж более из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем Магоммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и Кураном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу предания Персии и связывает ею истину с вымыслами. Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой ханжа персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий корыстолюбец персиянин останавливает на воздухе руку, не досчитав своих туменов, для которой сластолюбивый лентяй персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки, покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фердуси — о, это водопад Державина! Сколько раз уносился я одной музыкой стихов его, в то время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмысленным переводом!
И вот мы в Греции, в Греции, стороне богов, подобных людям, в стране богоподобных мужей! Я уверен, что этот salto mortale [187] не удивит вас: разве не учились вы прыгать в манеже? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на коньке своем не хуже Франкони-сына.
Вторая, несомненная степень поэзии есть эпопея, то есть народные предания о старине, одетые в шумиху басни. Да, история всех племен всегда начинается баснею, точно так же, как история всех народов должна заключиться нагою летописью, если верить, что род человеков совершенствуется. При истоке вы везде находите поэму в истории, равно как историю в сагах. Новички народы, точь-в-точь дворяне из разночинцев, всегда хотят облагородить своих предков, закрыть пестрыми гербами прежнюю вывеску, заставить расти свой родословный пень-гнилушку из облаков. Родоначальники их вечно или герои, или боги. Афинец ведет род свой от Феба; камчадал считает своим праотцем кита — это живительное солнце бытия его. Кроме того, первобытные пароды младенчески верят всему, что льстит их самолюбию. Любо им, чтобы их боги ссорились меж собой за их запечные ссоры, чтобы они якшались с ними запанибрата; без чуда нельзя было поколотить их ни в одной схватке, нельзя было ступить шагу без содействия чародеев, ибо вера в чудесное превращала для них сверхъестественное в естественное, творила невозможное обыкновенным.
Туманы и вдали увеличивают предметы, дают им затейливые образы. То же самое и с историческими истинами сквозь пыльный туман древности, между тем как нравы и климаты дают обликам сих преданий разные характеры.
Грецию избрало, кажется, провидение проявить мысль, до какой высоты изящества доступен был древний мир, средою коего она была. Как ранний морской цветок, она возникла из океана невежества, быстро созрела семенами всего прекрасного, в науках, в художествах, в нравственности, в политике, в поэзии всего этого… бросила свое благоухание и семена ветрам — и увяла, увяла прежде, чем кровавые волны поглотили ее. Светлое небо Эллады отражалось не только в водах Эгейского моря, но и в душах, в правах, гармоническом языке греков. Восточная поэзия — чувственность и грёза, греческая — вся чувство верное, пылкое чувство, которое пленялось родною, величественною природою, которое рвалось из груди на простор, точно так же как сам грек всю жизнь проводил на воздухе, на раздолье. Выходец из Азии, он принес в своей котомке лишь самые легкие поверья и сказки детства; он бросил на месте прежних сторуких крокоднлоглавых, птицеглавых, треглавых идолов; он забыл дорогою Аримана, он научился в скитаньях своих своевольничать; он окреп, он стал деятелен, он стал забияка, он стал крикун, он стал настоящим греком. И право, если б между разгульными богами Олимпа не замешалась грозная Ananke — Судьба, от которой сами боги трепетали как осиновый лист, вы бы не узнали в гинецее — гарема, в Пирее — базара, в Алкивиаде — потомка какого-нибудь из героев «Магабхараты». Главное в том, что душа грека изливалась вся наружу: он жаждал битв и песен, он пел природу и битвы, и выражение их у грека было в совершенном соответствии с предметом; выражение его отличалось особенною гармоническою точностию и, так сказать, отражаемостию, зеркальностию. Вот отчего вся поэзия греческая, в стихах ли, в мраморе ли, в меди ли она проявлялась, ознаменована недоступною для нас и пленительною для всех красотою. Никто лучше не выражал чувственной природы, ибо нигде нет природы лучше греческой. Но не один голый перевод с природы, не слепое, безжизненное подражание жизни находим мы в поэзии греков. В произведениях искусств мы находим идеал вещественно-прекрасного, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых воедино, красот, может никогда не виданных, но угаданных душою. В драмах, в одах сверкают уже мысли, заметно уже стремление к высокой, но неясной цели. Впоследствии философы высказали то, о чем намекали поэты. Романтизм оперялся понемногу; однако сколько веков протекло между Омиром и Платоном.
Омир!?…
Когда вы произносите это священное, освященное веками имя, кажется, вся Эллада восстает из праха огромным призраком!.. Кажется, видишь гиганта Атласа, который выносит на плечах своих весь древний мир из ночи забвения. Скажите, чего нет в «Илиаде» и «Одиссее»? «Феогония», родословие всей Греции, землеописание полумира, история, анатомия, все, что знал в те поры гуртом род человеческий, все там, и это все — самая ничтожная, незаметная частица в сравнении с величием поэзии, с роскошью образов! Никто не знал, где качалась колыбель этого гения; никто не знает, где его могила. Он явился в мир, исчез из мира и до того изумил всех, что начали не без причины сомневаться в его существовании, по крайней мере в целости поэм, ему приписанных, трудов, едва ль доступных одному человеку.
Пускай, впрочем, будет Омир загадкою, заданною нам древностию; пускай имя его есть собирательное имя всех поэтов, до него живших; пускай «Илиада» есть перечень тысячи рапсодий, сшитых искусною рукою. Дело в том, что под его именем известные эпопеи стали типом, образцом тысячи других эпопей, начиная с «Энеиды» до какой-то русской иды, или ады, или оиды, в которой затеряны следующие стихи:
Меж тем как Феодор звонил в колокола (Его любимая охота в том была).
Я думаю, каждый народ имел свои эпопеи, в каком бы лице они ни проявлялись: но имел в возраст юношества, не иначе. Юность все чувствует и всему верит; юность простодушна, как ребенок, и смела, как муж. Вот почему так неудачны были все попытки во времена разума создать или повторить народную эпопею. Большого промаха дал Торквато, замешав языческих богов в свою великолепную поэму, поэму христианскую в полной мере; но еще забавнее Вольтер, заставивший действовать отвлеченные понятия в лицах, своей надутой «Ганриаде», этой выношенной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVII 1-й век до мозолей, зевая под шляпою, и над которою мы даже не зеваем, оттого что спим.
Видя, что народ не верит уже сказкам, эпопея перекидывается в драму. Она отрубает от истории какое-нибудь частное происшествие и переливает его в свою огромную форму; выхватывает из толпы царей несколько имен, отмеченных природою или молвою, и путает их в невидимые цепи судьбы, бросает им молнию роковых страстей в грудь, растит эти страсти до великанских размеров, заставляет совершать страшные злодейства и потом, неумолимый судия, она бичует преступника змеями фурий, рассекает его огненным мечом своим пополам и показывает его сердце наголо зрителям, безмолвным от ужаса, — сердце, на котором вы видите еще зубы совести, которое плачет кровью, которое трепещется от мучений. Такова была трагедия древних, трагедия Эсхила, Софокла и Эврипида. Оттого ли, что она для большей свободы избирала героев, уже удаленных во мрак старины, или покорна была влиянию наружности, только всегда она выводит на сцену царствования злосчастия, как будто человек не имел в себе довольно величия. Не так понимали природу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго, — и менее ль занимателен их падший ангел-человек, их человек-мещанин, родня богов — Атридов?