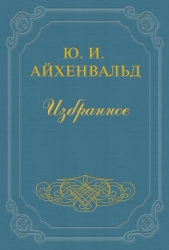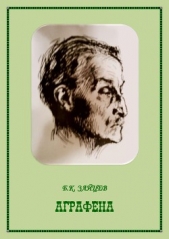Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Христофоров лег на землю. Долго лежал он так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея, и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уж он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто–голубоватым светом. Понемногу все небо наполнялось ее эфирной голубизной, сходящей и на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее — и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность.
Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно–серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.
Из книги В ПУТИ

СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ [259]
I
В сыром мартовском дне дымно синели леса за Окой. Сзади остались сады, купола города. Дорога шла шоколадною лентою, иногда лошадь шлепала в ней и по лужам, иногда попадались с боков небольшие озера — сверх льда. Вот будет тут половодье! Вдалеке монастырь глянул прощально.
В лесу сразу стало сумрачнее, суровей. Проехали лесопилку, дорога чуть в гору, разъезженная, розвальни ползут глубокою колеей и кренят. Бурый меринок Панкрата Ильича, патлатый и шершавый, бодро месит снег. Огромная кобыла Христофорова и Вани выступает важно, поколыхивая серым задом.
— Ну что, Ваня, как дела?
Ваня повернул юное лицо в ушастой шапке. Карие, спокойные и умные глаза, слегка исподлобья, обратились на Христофорова.
— Ничего, Алексей Иваныч. Доедем.
Христофоров полузакрыл веки и плотнее запахнулся в шубу. Мягкий, слегка влажный от дыхания енот так сонно и привычно пахнул! «Ничего, доедем, — он сквозь полудремоту улыбнулся. — Крепкий мальчик, коренастый, зря не скажет».
Христофоров сидел в розвальнях на мешках с сеном. Ваня ниже, боком на облучке, а в ногах под дерюжкою крупа, сало, окорок: в Москву на обмен. Ваня кончает реальное, живет у отца, в небольшом, теплом домике над Окой, с садом, яблонями и сливами. Невысокий, слегка сутулый, с вишнями в глазах, нежным румянцем — леонардовский юноша из подмосковных мещан. Христофорова занесло сюда года два назад после долгих, обычных в его жизни скитаний. В городе он давал уроки, помогал на площадке, раз прочел лекцию о литературе. За учение Вани получал и мукой, и пшеном, иногда сахаром. Все такой же был Христофоров, как в дальние, мирные годы; только бородка седее, усы ниже свисают, да реже ширятся, словно бы магнетически — голубые, некогда нежные к нежным московским девицам глаза.
Лесом ехали долго. Казалось, конца ему нет, и все кренят розвальни, бок устает, дебрь кругом, подсед еловый, сумрак… Наконец, за лощиною, поднялись круто в горку — выбрались на шоссе. Гудит проволока, тянется полотно железнодорожное, перелески, поля, сырой мартовский ветер, но к закату чуть прояснило. Вдали, над лесами, откуда прйехали, и над городом, ставшим вдруг страшно далеким, забрезжило медное облако. От него лег на дорогу смутный и беспокойный отсвет.
Панкрат Ильич соскочил со своих розвальней. Крепким, несколько развалистым шагом подошел к Ване и Христофорову.
— Отсидел ногу. Прямо чужая, анафема…
Он зажег спичку за ветром, спрятал огонек в лодке ладоней и, держа цигарку в зубах, наклонился головою вперед. Осветились светлые усы, курчавая бородка, глаза небольшие, серо–выпуклые, загорелые щеки. Втянул в себя с наслаждением. Пыхнул — красно зарделась на ветру крученка.
— Опоздали, безо всяких… Ишь мокреть какую развело! Как же мы домой‑то доберемся? А?
Он сплюнул.
—: На шоссе горб обсох, слышь, по земле чирябает, мерин весь в дыму. Эх ты, едят тебя мухи с комарами.
Панкрат Ильич шел рядом, едко курил, сладко ругался, было видно, что ругаться ему нужно: так, избыток сил. И от всего его тулупа, валенок на кожаных подошвах, вкусной на ветру цигарки, брани становилось веселее. Он стегал иногда серую кобылу — не по злости, а тоже для поощрения. Вечер же надвигался. Все смутней, сумрачнее, одиноче в талом поле. Но когда совсем стемнело, дрогнули огоньки в деретне. Панкрат Ильич сел в свои розвальни, тронул рысью, через четверть часа ехали уже длинною слободою, через которую шло шоссе, спрашивали баб на крылечках:
— Эй, тетка, пустишь, что ли, ночевать?
II
С одного крыльца, из темноты, ответили:
— Заворачивайте.
Сумрачно отделилась женская фигура, зашлепала к воротам. Они заскрипели. Панкрат Ильич с Ваней тронули лошадей во двор. Христофоров слез, путаясь в стареньком своем еноте, и, слегка придерживая полы шубы, вошел в сени.
— В Москву, что ли? — спросил женский голос, и рука отворила дверь из сеней в самую избу.
— В Москву.
Изба была опрятнее и больше тульских и калужских, в общем тоже все обычное, знакомое. Лучины, впрочем, Христофоров не видал давно. Теперь она горела чисто, жарко, в железном кольце, и таракан суетливо бежал под нею. Но какая‑то пустынность, словно нежилое вдруг почувствовалось. Христофоров вспомнил, что такое же ощущение было и на улице: будто полусонная деревня, и полупустая. Баба оказалась серая, немолодая и худая. Девочка выглядывала с печки. Что‑то одинокое и скорбное невидимо разлито в воздухе.
— В Москву, значит, на лошадях… — вздохнула баба. — Де–ла–а! Хлебушка не разживемся у вас? Хоть по корочке, с Рожества оконятник жрем.
Она взяла со стола кусок зеленоватой мастики — Христофоров хорошо знал этот знаменитый фрукт — горсточка муки, заваренная на сушеном конском щавеле.
Отворилась дверь, Ваня вошел.
— Хозяйка, покажи‑ка нам, где лошадей поставить. Да получше бы ворота запереть, а то ведь знаешь, времена какие…
Ваня смотрел спокойно, исподлобья, леонардовскими своими глазами, и не снял ушастой шапки.
— Ваня, я могу помочь вам, — сказал Христофоров. — Отпрячь лошадей, например…
Ваня на него взглянул, чуть улыбнулся.
— Нет уж, Алексей Иваныч, вас не надо. Сами справимся.
И с такою деловитостью, на своих коротковатых ногах вышел с бабою, что Христофорову только осталось сесть на лавку да глядеть на таракана, на лучину, все по-прежнему потрескивавшую, на кудлатую головку девочки. «Ему восемнадцать лет, мне за сорок, и я его учитель, но он смотрит на меня как на ребенка» — голубые глаза Христофорова расширились и гипнотически уставились на проходившего мягко по лавке кота. Кот вытянул хвост, изогнулся, поблескивая электрическою шерсткой, тоже воззрился на Христофорова круглыми, зеленоватыми зрачками. А потом ушел, пофыркивая, чем‑то недовольный.
Панкрат Ильич и Ваня скоро возвратились. И начался ужин в чужом доме, на изгрызенном столе, в душноватом сумраке полупустой избы.
Бабе с девочкой дали по ломтику сала и хлеба. Они жевали бессмысленно–сладостно. Панкрат Ильич ел много и серьезно, разгорелся, раза два икнул. Потом раскинул свой тулуп, угрюмо улегся на лавке.
— Как ворочаться будем… как доедем… — зевнул. — Царица Небесная… Тетка, что слыхать под Москвой… отбирают шибко?
Баба запела с печки:
— Уж как отбирают, милые мои, уж надысь бабочки говорили, прямо все — их обчищають…
— Экая стерва… Значить, настоящая стерва.
Он шумно выпустил из груди воздух. Лучина давно догорела, и огрызок ее с шипением упал в таз с водою. Темнота избы — последнее, что получила человеческого — слова Панкрата Ильича, не очень утешительные. А потом и он замолк. Лишь бурно закипела его грудь.
Христофоров лежал на спине, на своей вытертой шубе. То ли было душно, новое ли место, только не спалось. Из окошка, рядом, лег свет луны, золотистой пеленой охватив нежные ворсинки меха. Они заиграли в нем радужными оттенками. Все тот же кот, бесшумно, тайным татем [260], прошел у стены по лавке и, войдя в полосу луны, вдруг остановился, выщербил свою спину, повернул к окну круглую морду и бессмысленно, но и безвольно загляделся. Его мягкая шерстка затеплилась сухим блеском… Христофоров лежал неподвижно, почти не дышал — не хотелось сгонять мгновенного очарованья. Пусть бы всегда вот так кот стоял, играла луна, и мех зыблился, и в этом обольщении, как в позлащенной раковине, все бы вот смотреть, и жить…