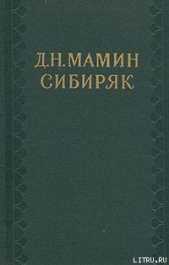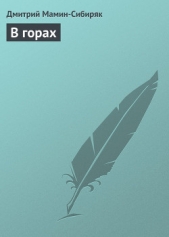Том 7. Три конца. Охонины брови
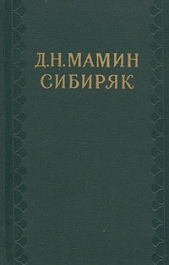
Том 7. Три конца. Охонины брови читать книгу онлайн
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
В седьмой том вошли: роман «Три конца» и повесть «Охонины брови».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зело оскорбел во узилище, доченька, — жаловался Арефа. — Сидел на гноище, как Иов многострадальный…
Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подряснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.
— Перестань, дура, — проговорил очнувшийся Арефа. — Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а вперед — бог. Сподобился и в бане попариться.
После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.
— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.
— Нету его, — уехал домой! — ответила за отца Охоня.
— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.
Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:
— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот ужо оболокусь и предстану воеводе.
— Ты поскорее, дьячок, — воевода не любит ждать.
У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.
— Батя, не ходи: расказнит тебя воевода, — шепнула она отцу. — А то лучше я с тобой сама пойду.
Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.
Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.
III
Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, — от него все станет.
— А девка — мак! — проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.
— Мак-то мак, да не совсем, — ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.
— А што?
— Да так… Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит [39].
— Н-но-о?
— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится, — все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом…
Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.
Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам-друг, — детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзглая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили…
— Што воротился-то спозаранку? — встретила она мужа.
— Так, — коротко ответил воевода. — Не твоего бабьего ума дело.
Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду, — ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.
«А девка гладкая, — думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. — Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила… Одним словом, удалая девка».
В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.
— Ну, вот что, несообразный человек, — заговорил воевода, — выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?
— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч, — взмолился Арефа, стоя на коленях. — Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен… Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.
— Хорошо, хорошо… Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?
— А в Служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.
— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне… Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать… Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.
— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна… Безвинно он лютует.
— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов… А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы… Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае…
— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?
— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку…
Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!
— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь, — заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу. — Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь затовариваешь, и с порчеными людьми отваживаешься.
— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?
— На виноватого с поклепом! — засмеялся воевода. — Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое…
Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:
— Два у меня дела к тебе, Арефа… Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.