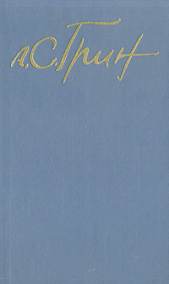Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ее поведение мне казалось неровным и непонятным. То она была со мной холодна и мне представлялось, что она это делает умышленно, для того чтобы доказать своему мужу, что она мной не интересуется. Тогда я готов был ее убить, задушить, наговорить дерзостей. Но вместо всего этого я спешил убежать от нее… Я тогда еще хорошо бегал, и кровь играла в жилах…
Иногда я не мог не сознавать, что в ее глазах, при взгляде на меня, было что-то ласкающее, загадочное, что-то большее, чем обыкновенное участие.
Тогда я не знал, что со мной делалось. Я готов был плакать, смеяться, кричать, броситься перед ней на колени, но обыкновенно кончал тем, что хватал шапку и исчезал в лес. Там я бродил, тысячу раз переживая ощущение от ее взгляда, останавливался, вызывал перед собой ее образ, впивался в ее глаза, которые как огнем жгли меня, кричал ей, что люблю ее, и чувствовал себя близким к сумасшествию.
После этого нападало на меня мрачное отчаяние. Ее приветливый взгляд я объяснял себе пустым кокетством, упрекал ее в бессердечии, ненавидел ее и бранил. От мысли, что я влюблен в нее, мне становилось то жарко, то холодно, и, я дрожал как в лихорадке. Я думал:
«Как? Добровольно отказаться, испугаться намека, для того, чтоб через восемь лет сделать уже настоящую подлость?»
Но чаще мысль, что я люблю ее, жгла мне кровь, и я бессильно томился в охватывающей меня истоме.
Иногда эта борьба с собой казалась мне непосильной; я шел к ней с решительным намерением во всем признаться. Но, когда я приходил, я думал только о том, чтобы кто-нибудь, а особенно она, не догадались, что я влюблен. Очень часто вместо объяснения вследствие этого она получала даже оскорбления, которыми я старался показать ей и другим, что я не люблю ее. Я чувствовал, что становлюсь несносным человеком. Кончилось все это тем, что мой помощник под каким-то предлогом попросил перевода. Как ни тяжело было, но и я сознавал, что это — лучшее, что можно было сделать. Отношения наши, сильно обострившиеся было, стали постепенно принимать в виду близкой разлуки более сердечный характер. Наконец был назначен и день отъезда. Муж уехал на несколько дней вперед, чтобы приготовить все к переезду семьи.
В его отсутствие наше сближение пошло еще быстрее. Я не только не боялся этого, как бывало прежде, но, напротив, давал себе волю. Если наши глаза встречались, я не спешил их отводить и мгновение, два, больше, чем следовало, удерживал свой взгляд на ней. Сознание, что и ее глаза под моим взглядом вспыхивали ответным огнем, опьяняло меня, и кровь, как молотом, била мне в голову. Я чувствовал, что спускаюсь по наклонной плоскости и что не далеко уже то время, когда я не в силах буду сдерживать себя. Но меня успокаивало то, что за недостатком времени, в виду близкого конца, из всего этого ничего не могло выйти. Это было слабое утешение, меня просто-напросто захватило уже что-то роковое, с которым я не мог больше бороться…
Был чудный майский вечер. Только на севере бывают такие вечера. Здесь скупая обыкновенно природа, если уж раскошелится, то и югу с ней не сравниться, да и ценишь это за редкостью больше.
В такой вечер мы сидели однажды вдвоем на берегу пруда, вдали от людей, жилья, а в наших сердцах чутко отзывались и ясный догорающий день, и тихий плеск воды, и этот опьяняющий запах черемухи. Перед нами точно растворялись какие-то таинственные двери. И все это — и синее небо, и молодая зелень, и сверкающая поверхность пруда, и полные неги и страсти трели соловья — точно сливалось в один чарующий душу, всесильный гимн любви. Я как во сне видел ее глаза, помимо ее воли загоравшиеся чудным огнем. Невыразимая истома разливалась по моему телу.
Я уже слышал ответ, который не хотел выслушать восемь лет тому назад.
Оковы, в которых я всю жизнь держал себя, порвались, как гнилые веревки. Я увидел возможность новой, неизведанной еще жизни, полной бесконечного, невыразимого блаженства. Все подернулось туманом, сквозь который я видел только ее страстные, чарующие глаза.
Что-то невыразимое, бесконечно сильное охватило меня.
— Боже мой!.. — воскликнул я и остановился.
Я хотел ей сказать, что люблю ее, что всегда, всю жизнь одну ее любил, что нет силы во мне терпеть больше, что всякая смерть легче той мучительной жизни, которую я веду.
Но что-то, как тисками, сжало мне горло.
Когда, наконец, вернулась ко мне способность говорить, я сказал ей, что я уезжаю, что решился оставить службу и просить главного управляющего о назначении ее мужа на мое место. Я с ужасом прислушивался к своим собственным словам. Разве это хотел я сказать? Разве это я говорил? Конечно, нет! И она понимала это. Как смотрели на меня ее чудные глаза! Я делал нечеловеческое усилие, но против моей воли мой язык был скован, и я смотрел на нее светлым, но непреклонным взглядом.
«Все кончено!» — сказали ее глаза, и две слезы тихо покатились по ее лицу.
«Все кончено!» — ножом вырезалось в моем сердце, и я без сил упал на траву после ее ухода…
Через неделю я уехал. Они провожали меня. На прощание она подарила меня еще одним взглядом, не чарующим, но долгим и ясным, как был ясен тот чудный день, в лучах которого навсегда скрылся ее образ.
Я ехал как с похорон. В далеком небе, в изумрудной зелени, в смеющейся дали уже не было ее и никогда не будет; но ее последний взгляд, как последний чудный аккорд прекрасной мелодии, наполнял мою душу тихой, ясной грустью о невозможном и невозвратном былом…
С тех пор прошли еще года. Я теперь уже старик и, если хотите, даже не жалею о прошлом. Во-первых, ничто не вечно, — так или иначе жизнь все равно прожита, а во-вторых, лучшее, чем мы обладаем, — способность любить и чувствовать искусство, природу, — сохранилось во мне. Я не испытал, конечно, высшего счастья на земле — семейного, но зато я сохранил тот руль, без которого, кто знает, чувствовал ли бы я в себе ту гармонию, о которой вы говорили.
Я часто любуюсь заходящим солнцем, смотрю на догорающую полоску и думаю, что уже недалеко то время, когда и я уйду в страну, где так хорошо, хорошо, как говорила моя старушка няня.
Я переживаю вновь прошлое и спрашиваю себя: жалею ли, и как бы я хотел поступить, если б ко мне опять возвратилась моя молодость? И я перед отворенными уже для меня дверями другой жизни говорю твердо и решительно: я желал бы поступить сознательно так, как помимо меня поступила моя натура.
Ревекка *
Посвящается мученикам любви
Это было очень давно.
По улицам одного большого южного города, уступами — спускающегося к синему морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура одного сумасшедшего.
Глаза зрителей привыкли к сумасшедшему, к его фантастическому наряду, и никто больше не интересовался, откуда и кто он.
Однажды в рождественскую ночь нашли его замерзшим у подножья одного оригинального полуразрушенного памятника заброшенного кладбища.
В памятнике была устроена эолова арфа, которая при малейшем дуновении ветра издавала, в зависимости от силы ветра, то легкий, слабый, дрожащий не то стон, не то жалобу или мольбу, то дикие безумные вопли.
Самый памятник состоял из высокой пирамиды, наверху которой в синем небе нежно вырисовывалось чудное изваяние из каррарского мрамора женской фигуры.
В застывшей позе тоски и сомнения, с наклоненной головой, изваяние, казалось, всматривалось или искало что-то потерянное там на земле.
Короткая надпись: «Я разбил ее счастье», пустота и безмолвие заброшенного кладбища — все вместе тоскливо останавливало в этом преддверии вечности взгляд редкого посетителя в бесполезном усилии проникнуть в потерявшуюся тайну этого конца какой-то тяжелой драмы жизни.
Не надо было больше старому Бену его толстых книг, высокой конторки, всех тех людей, которые столько лет ходили и, казалось, не могли жить без него.