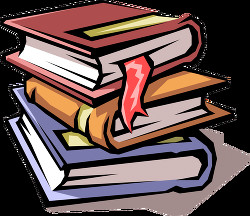Святочные истории

Святочные истории читать книгу онлайн
Святки — удивительный период времени: один год приходит на смену другому, и кажется, что возможно все. Эта необычная атмосфера праздника вселяет веру в возможность чуда. Святочные истории всегда пользовались успехом у читателей, к ним обращались и самые известные авторы.
В сборнике публикуются рассказы и повести русских писателей XIX–XX вв. — А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Даля, Д. В. Григоровича, А. П. Чехова, И. А. Бунина, В. В. Набокова и др., объединенные темой Святок. Н. С. Лесков дал одно из самых известных определений святочного рассказа: от него «непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело… он должен быть истинное происшествие!». И вместе с тем «пестрота» сюжетной и философской наполненности святочных рассказов свидетельствуют об отсутствии строгих канонов: произведения, включенные в данное издание, демонстрируют разнообразие авторских подходов к святочной тематике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял, голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. — Мертв! — повторил он. — Пускай же мертвые не мешают живым, — и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.
Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.
— Вот что называется: и концы в воду, — сказал со смехом проводник мой.
Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.
— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.
— Хороню свой клад, — отвечал он значительно. — Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает…
— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно. — Едем!
— До Бога высоко, до царя далеко, — произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие, — Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!
Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленах, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:
— Кровь! На тебе кровь!
Сердце мое расторглось… но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.
Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностию, или, лучше сказать, безнравственностию, еще горячий местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увезти чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе, — знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом… И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, — и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастие исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.
Воздух свистел мимо ушей.
— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.
— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.
Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.
— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.
— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постеля!
С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежевырытою могилою, на краю которой стояли сани.
— За такую красотку не жаль души, — примолвил он и толкнул шаткие сани…
Мы полетели вглубь стремглав.
Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно… Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься… Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба…
Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее… И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении… Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!
«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше Бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.
М. П. Погодин
ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР [24]
Весь левый низменный берег Оки, почти от устья Москвы-реки, чрез Клязьму, до самой Волги, покрыт густыми сосновыми лесами, в иных местах верст на семьдесят шириною. Леса сии мало-помалу редеют с того времени, как московский топор, добравшись до них, начал просекать сквозные дороги чрез их заповедные чащи; но лет за пятьдесят, за шестьдесят много еще было таких, куда человек не ступал никогда ногою и даже ворон, по старинной пословице, костей не занашивал. Вечерняя темнота не рассветала в них ни летом, ни зимою; и лишь в березовые рощи, рассеянные кое-где между непроницаемыми соснами и елями, прокрадывались лучи дневные. Тишина глубокая. Иногда только ветер гудел в сокровенной середине, силясь напрасно прорваться сквозь плотные частые преграды; и изредка слышен был медведь, который, взлезая на сосну за бортным медом, царапал своею широкою лапой по древесной коре, или волк, который, почуя дальнюю падаль, скакал по земле, покрытой иглами. Но среди сих дремучих боров есть многие болота, покрытые серым мохом и густою осокою, приволье диких птиц всякого рода, широкие озера, богатые рыбою; и здесь-то исстари находились деревни, основанные охотниками, угольниками и предприимчивыми хозяевами, кои селились в этой глуши, надеясь собирать больший доход с наследственных своих угодий.
У одного из них, премьер-майора Захарьева, который переехал из Москвы в Муромскую деревню с тоски по умершей жене, а остался по привычке и страсти к охоте, затеялось игрище в Васильев вечер для единственной дочери, девятнадцатилетней девицы. Все соседи, ближние и дальние, почти за неделю собрались к богатому и радушному хозяину; и в назначенный день, чуть только смерклось, между тем как старики в особых комнатах сидели за отменным пенником [25] и густыми наливками, хвастаясь друг перед другом своими подвигами, нетерпеливая молодежь начала святочные игры; запели песни, заплели хороводы, пустились вприсядку. Поднялся шум, крик, смех, раздались веселые плески. Жмурки, гулючки, жгуты, носки [26] следовали одни за другими, прерываясь только общим хохотом, когда кто-нибудь второпях ушибался до крови об угол, или падал стремглав на подставленные ноги, или получал удар побольнее в спину, от которого трещали зубы и из глаз сыпались искры. Ближе к ночи начались гадания, любимая забава взрослых девушек. Они принялись топить олово, выливать в холодную воду и в застывающих образах читать свою участь. Другие выставлялись лицом за окно, накликая суженого: «Шени меня, мани меня лисьим хвостиком», — и мягкое прикосновение сулило им богатство, так как жесткое — бедность. Третьи выбегали на мороз и всем телом ложились на рыхлый снег, чтоб по замерзлому отпечатку судить о доброте и лихости будущих мужьев своих. Иные, наконец, бегали слушать на паперть, под церковное окно, иные на мельницу, на погребицу, к закормам, на гумно. Всего занимательнее было толкование предвещаний, когда девушки, одни белые, как молоко, другие красные, как кровь, испугавшись или ободрившись, набежали опять со всех сторон в комнату и стали пересказывать друг другу полученные вести. Вот тут-то надо было послушать споров: один и тот же знак, один и тот же звук иные принимали к добру, другие к худу, одни плакали, а другие смеялись. А как наконец начались поздравления, утешения, шутки, насмешки! Словом, шумному веселью не было бы конца, если бы старики, успевшие раза по два напиться и проспаться, не стали вызывать игруш домой: на общем совете у них положено было разъехаться теперь же, несмотря на позднюю пору, для того чтоб удобнее было на третий день собраться к одной дальней имениннице. Девушкам было очень досадно оставить такое раздолье, но их утешили надеждой вскоре возобновить прерываемую забаву; и они, перецеловавшись с молодою хозяйкою, поблагодарив ее за ласковое угощение, уговорясь о наступающем празднике, одни за другими разъехались с своими родителями, уложенные и укутанные. Старик взялся сам проводить одну свою приятельницу, трусливую вдову с двумя дочерями, жившую верстах в двадцати от его усадьбы.