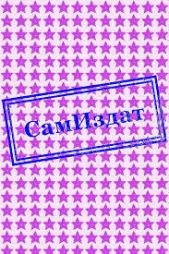И всякий, кто встретится со мной...
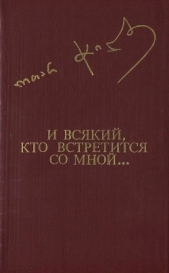
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Спасет ли хоть что-нибудь нашу родину? — окликал ее иногда с печки Ладо-Соломон.
— Спасет! — коротко отвечала Марта, разглядывая книгу, рисуя или одевая куклу, сделанную ей дядей Тедо.
— Откуда ты знаешь, деточка… откуда ты знаешь? — беспокоился Слмн.
— Знаю… — твердо, упрямо отвечала Марта.
Она действительно знала куда больше, чем говорила! Она знала, что где-то за тридевять земель есть двухэтажный, обнесенный каменной оградой дом, в котором живут самые близкие ей люди. Во дворе этого дома шелестят липы, вокруг столбов веранды с писком кружатся белогрудые ласточки, а из хлева выглядывает осел с блестящими агатовыми глазами — осел, на котором когда-то возили в школу ее тетю. Давным-давно обитатели этого дома по вечерам собирались вокруг пузатой фарфоровой лампы, и бабушка Марты читала им напечатанные в больших книгах с позолоченным обрезом истории, слушать которые можно было без конца, — поэтому, когда огромные, как шкаф, часы показывали, что детям пора ложиться, и Агатия, старая няня, воспитавшая отца, дядю и тетю Марты, утаскивала их спать, в доме всегда подымался громкий шум (и Марта улыбалась, представляя себе эту сцену). Она знала, что дом этот — и ее дом, что забыть о его существовании она не сможет никогда и, куда б судьба ее ни закинула, ее лицо и сердце всегда будут обращены к этому дому. Знала она и то, что ее дядя Александр — самый сильный, смелый и добрый человек на свете; что, если она не найдет дороги домой, он разыщет ее сам — сквозь стену пройдет, а разыщет, в преисподнюю спустится, а разыщет, до небес дотянется, а разыщет! У него, правда, всего одна рука, но не дай бог кому-нибудь встать на его пути или осмелиться обидеть Марту! Она так много слышала с нем от отца, что узнала б его даже издали, и так часто рисовала этого однорукого человека, что очень удивилась бы, окажись он хоть несколько иным. Его она рисовала и сейчас. В избе пахло вымытым полом, мирно гудела печь, на которой лежал Ладо-Слмн, со двора доносился хрип пилы… и Марта даже представить себе не могла, что через какие-нибудь две-три минуты собственными глазами увидит дядю — не нарисованного, а живого. Выглянув в окно избы, она уже сейчас заметила бы черную точку, но ей, конечно, никогда не пришло бы в голову, что это упрямо приближающаяся черная точка и есть ее дядя Александр. Чуть-чуть обиженная тем, что в ее ласточке нашли сходство с ястребом, она теперь, в пику Ладо, рисовала однорукого великана. Внезапно хрип пилы прекратился, но ни Марта, ни Ладо внимания на это не обратили. Когда-то ведь он прекратиться должен был!
— Ну-ка взгляни… кажется мне или действительно кто-то идет? — спросил Тедо Евгения, который, повернувшись, тоже сразу увидел направлявшегося к ним незнакомца…
Ворона, маленькая, как брызнувшая капля дегтя, медленно, нехотя летела вдоль лесной опушки. «Она не летит, а надо мной кружит! — подумал Александр. — Почуяла, что я подыхаю… из-за этого и мечется, не отстает от меня. И не отстанет, пока глаз моих не выклюет, в зобе ими не булькнет! Эй ты, крикунья! Ты думаешь, я знал, что творил? Слепым родился, слепым и жизнь прожил. Ты ж этого и хотела, попадья чертова! Если ты думаешь полакомиться моими глазами, то зря! Они горьки, ядовиты… чтоб тебе с места не сойти! Ничего-то они не видали, кроме уродства и грязи, — пару желчных пузырей и проглотишь. И все-таки тебе придется глотать, переваривать их: они ведь и поруганную наготу сестры видели! А еще… еще они видят тебя, грязнуха паршивая, уродина почище еще меня самого! Почему ты кружишь вдали? Лети сюда, не бойся — я тебя поблагодарю только, если ты действительно выклюешь все, что я видел и запомнил! Лети ко мне, не то я всем скажу, какая ты уродливая, грязная… Пойми ты, дуреха, я не смерти боюсь, а жизни! Если ты меня стыдишься — ну вот, я на тебя не гляжу… — Он прикрыл глаза рукой. Глаза болели — глухо, приятно, не переставая; внезапно наступившая тишина была заполнена красными, сумасшедшими искорками. — Дуреха… дуреха! — несколько раз повторил он вслух, ни к кому не обращаясь, никого не имея в виду, словно ему просто понравилось вдруг это слово. Он шел, по-прежнему прикрывая глаза рукой. Задубевшие, несгибаемые полы его тулупа звенели примерзшими к ним сосульками, но сам он не чувствовал того, что идет, о чем-то думает, рукой прикрывает глаза… — Аннетин инженер хоть знал, кого ему бить; а я и этого не знаю… и никогда не знал! — Он отвел руку от глаз и взглянул на нее точь-в-точь так же, как шесть месяцев назад, под липами во дворе родительского дома. Сейчас красные, сумасшедшие искры прыгали у него на ладони. — Тьфу… проклятая, негодная кровь!» — сказал он, вытирая руку о тулуп, словно она в самом деле была в крови.
Он был уже виден — двое ссыльных, остановившихся возле мерзлого, наполовину распиленного бревна, его заметили. Оба они уже разглядели, что идущий к ним человек несет не полено под мышкой, а вытянутый, негнущийся рукав, — и оба уже догадались, кто он такой. Если ж они друг другу в этом еще не сознались, то только из боязни разочароваться, ошибиться в своей догадке; ибо им хотелось, им очень вдруг захотелось, чтоб человек этот оказался именно тем, за кого они его приняли, тем, кто в их представлении только таким быть и мог. Глядя, как он пробирается сквозь снег, они повторяли про себя его имя, хоть никогда прежде его не видели и ничего ни хорошего, ни плохого вместе с ним не переживали. И все-таки он был единственным, кого они ждали, кто непременно должен был прийти из того мира, если только тот мир еще существовал и если существовало еще братство вообще. Они были каторжанами, и важней хлеба, воды и огня для них была вера в то, что весть о судьбе брата всегда дойдет до брата даже за тридевять земель, что и там она не даст ему покоя, сделает его хлеб горьким, а изголовье каменным, не отвяжется от него до тех пор, пока не заставит его сделать невозможное возможным! Еще минутка, и Тедо скажет: «Пусть и мне оттяпают руку, если это не Александр, брат нашего Нико…» — скажет растерянно, обрадованно, но и озабоченно; ибо если эта догадка подтвердится, то вера их, конечно, окрепнет, но ведь с Мартой-то им придется распрощаться, Марту ее дядя заберет отсюда сегодня же! Оба сразу подумали и об этом — смутно, с неясным страхом и неясной радостью, как это свойственно всем ожидающим, которым именно в последнюю минуту ожидания всегда вспоминаются тысячи всевозможных «а вдруг…» и «а если…».
— Пусть и мне оттяпают руку, если это не Александр, брат нашего Нико… — сказал Тедо; и Евгений взглянул на него так удивленно, словно не догадался уже и сам.
А Александр не видел еще ничего, кроме вороны; он не был уверен в том, что действительно идет, от чего-то удаляется, а к чему-то приближается, — его с трудом двигавшиеся ноги как бы сами собой несли истощенное, окоченевшее тело навстречу стоявшим перед избой ссыльным. Он слышал лишь звон сосулек, и ему казалось, что он вернулся в далекое детство, что они с Нико вновь несут в школу человеческий скелет, кости которого, долго валявшиеся в углу класса, они неделю назад притащили домой, чтоб собрать его. Собирали они этот скелет всю неделю. Пол их комнаты был усеян человеческими костями; братья забыли и еду, и игры и не открывали двери ни Анне-те, ни Агатии, тщетно требовавшей и умолявшей показать ей, чем они все-таки занимаются. Скелет понемногу рос; нанизанные на крепкую нитку кости покачивались, словно орехи на веревочке для чурчхелы; лишь один шейный позвонок так раскрошился, что им пришлось вырезать деревянную подпорку, из-за чего череп чуть накренился набок — так, словно скелет, стоя на ногах, уснул. Когда его наконец вынесли из комнаты, Агатия выронила из рук только что вымытую тарелку и, перекрестившись, упала на колени; но на это они не обратили внимания — они старались лишь не споткнуться, не повредить своей работы. Не взглянули они и на деда, наполовину уже поднявшегося по лестнице, но опять поспешно сошедшего вниз, чтоб, как царскому знамени, уступить дорогу спускавшемуся, потрескивавшему в руках его внуков скелету. Казалось, этот день все еще длился, и они, счастливые, гордые своим творением, все еще несли скелет по улицам Уруки; а он, заново явленный, поднявшийся из могилы, восстановленный, покачиваясь и лязгая суставами, слегка склонив набок голову как бы в знак приветствия, одновременно искоса недоверчиво разглядывал давно не виденный им мир…