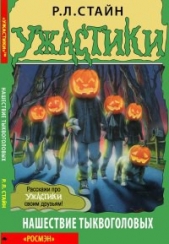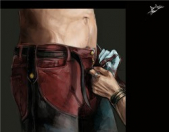Соленые радости
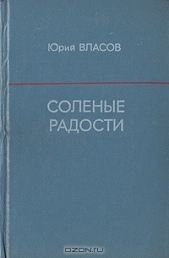
Соленые радости читать книгу онлайн
Книга «Соленые радости» написана известным советским спортсменом, неоднократным чемпионом мира Юрием Петровичем Власовым.
Герой произведения – тоже атлет – задался благородной целью изучить природные закономерности силы. В последнем, самом сложном эксперименте, поставленном на самом себе, герой допускает ряд просчетов, которые серьезно отражаются на его физическом состоянии.
Преодолению трудностей, возникших в результате экспериментальных просчетов, и победе, прежде всего над самим собой, посвящается это художественное произведение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я повышаю голос. Пес приоткрывает глаза, равнодушно-сонно смотрит из-под щелочек век.
– Согласен?.. Пошли… Забавно здесь называют чучела – чучалки. Рассадим-ка эти чучалки. И с Агашкой?!.
Я встаю. Пес настороженно таращится.
Я собираю вещи. Пес взлаивает, прыжками ходит вокруг.
Отсюда с холма лиственный лес – он пониже елового- как вышит по мрачноватому фону. Пересечь болото – и я там. Это с километр. Пойду лесом вдоль озера.
Ветер покрепче. Это ладно: утка станет жаться к воде.
Стебель козлобородника ломок и липковат. На пальцах бледно-желтые лепестки. Давний мой приятель: под Москвой зацветает в первых числах июля. И не брезгует самыми захудалыми дворами.
– Азартны мы с тобой, – говорю я. – Все, как новички. Слушай, а что все-таки слаще? Азарт, наверное, а? Опыт-то, старина, – это все же старость. Пусть даже когда немного лет. Чувствуешь-то иначе. Не согласен?..
Пес оглядывается. Даю отмашку, чтобы держал прямо.
Здесь на болоте о ветре можно лишь догадаться по протяжному гулу. Мы идем вдоль гряды леса над озером.
Сажусь на корточки. Зарываю ладонь в заросли клюквы и вместе с листочками вычесываю ягоды. Угощаю пса. Он не отказывается. Так и едим вперемежку. Пес фыркает и отбегает; сыт.
Мох уступчив и нежен под руками. И мошка не заедает. Лес полон запаха смолы. Горит лицо. И солнце в глазах отчетливее и знойнее изливает лавы своего жара. Я озираюсь на шелест леса, сглаженный расстоянием, на свежесть испарений этих ледниковых озер, влитых в раздолье ветра.
Здесь какой-то шабаш синих коромысел. Скорее всего, затишье дает уверенность их поиску. Впаянно-неподвижно виснут эти большие стрекозы в воздухе, а потом, отдаваясь его течению, внезапно срываются, и уже невозможно проследить их взглядом.
Это моя тишина. Заветная тишина полного согласия с собой.
Я поднимаюсь. И пес, услышав меня, зарыв нос в траву, припадая на больную ногу, кидается навстречу всем запахам.
Я мешаю ему. Я глуп. Я смешон. Я кричу: «Слушай, расскажи об этом!» И то, о чем я прошу его, что называю словом «это» – тот мир, который повсюду со мной. Он в городе, в реве чрезмерных усилий, в уступчивости ласк, в слиянии с ласками, в безбрежности лиц, в святости убеждений, и он есть то, для чего вся эта жизнь…
Пес «челночит». Ветер уводит его вправо. Я поглядываю на плеть и смеюсь. Все же распускать его нельзя. Что за радость тащиться там, где после поиска вот такого бродяги даже кочка скучает от одиночества?.. Я возвращаю пса свистками. Я не отцепляю плети, но грожу ею псу. Я наклоняю голову, чтобы спрятать улыбку. Этот пес понимает улыбку. Он лает и бесшабашит тогда без удержу. Но, ей-богу, я бы на его месте тоже наслаждался всеми этими запахами. И какое дело тогда до всех запретов?..
Рокотом прибоя надвигается таежный лес. Гуще аромат хвои. Выше лес. И ближе, чернее тени.
И я уже свой в этом шуме. И все деревья мерно клонят по ветру верхушки. И завитки коры опадают на землю. И внизу очень спокойно. Ярусы нижних ветвей слиты в неподвижность.
Берега озера запластованы мхом. Солнце, проблескивая между стволами, вытаптывает по зеркалу искристую тропу. В темной воде очень светлы палые листочки. Метрах в пятнадцати от берега осока и тростник. До чего ж уютны эти заводи с курчавыми наплывами длинной и путаной водоросли и листочками, мокнущими поверх воды. Этой зеленью кормится кряква.
Я вдруг чувствую, как тянет мое ружье и тяжелы сапоги. И ноги стерты. Быстро нахожу место для отдыха. В траве чернеет старое кострище, а заросли лещины защищают от озерного ветра. Сваливаю в кучу поклажу. Сношу сушняк. Костер обсушит и отгонит мошку. Оборачиваюсь на плеск. Пес шлепает по воде, взмученно плывет донная муть. Пес жадно лакает воду.
Запаливаю сушняк. Достаю хлеб, консервы. Ругаю пса. Он отряхивается, брызгами пачкая мне лицо.
Дым пронизывает лес, сине застаивается в елях. Пламя бесцветно и жарко. Пес скребет задней лапой за ухом, позванивая ошейником. Потом ловит зубами травинки. Ни хлеб, ни консервы его не прельщают.
Солнце вразнобой высвечивает стволы деревьев.
Вожу пальцем по срезу пня. Пес сует морду в пальцы.
– Не мешай, вислоухий… Семьдесят восемь, семьдесят девять… девяносто три. Как тебе это нравится? Сколько же можно успеть, если вот так – девяносто три! Нам бы их. А славно здесь: вымороженная свежесть, чистые ветры. Славно же здесь зимой. И на лыжах-то, наверное, не пройдешь. И бело все. Ты только прикинь: лес – множество веток, пней, валежника – и все без движения. Бородатый иней. Сквозные ветры. И снег сорвется с ветки, а по сугробам оспины…
Пес заглядывает мне в глаза. Уныло, со стоном зевает.
– Гуляй, старина. Не держу – гуляй! – Я похлопываю его по холке. – Не хочешь? Давай ко мне, старина. Давай морду. Что, тепло?.. Улыбаешься… – Я трогаю мокровато-бугристые брыли. Мну ладонью горячую морду. – Славно ведь вытянуться, а?.. Пьяные у тебя глаза. Коричневые и пьяные. Если тебе скажут, что ты не породный, не верь. Шерсть у тебя коротковата – это факт. Но глаза… Ты заглядывал себе в глаза?.. Вот у тех, что вырождаются, что слишком испорчены, – у них глаза рыжие со светлинкой. Поэтому не слушай знатоков. Знатоки всем поперек глотки. Ты пес что надо… Славно здесь, как славно!.. Да спи ты – это я сушнячка подбросил. Эка ты, брат, привереда. Что ж, мне и не пошевельнуться? Сейчас одежки просушим. Но куда ты разлапился – подпалишь шубу… Вот так, старина, а то ведь нет другой… Не любишь тушенку? Врешь… Вот отдохнешь, будешь хвостом крутить. Нет, старина, я не могу так натощак. Вот в банке чаек согреем. А тепло здесь, тепло… Славный у нас денек, старина. Все дни славные. Знаешь, это здорово слышать, как вот рыжие плясуны перепаливают хворост. И подкидывать его приятно. И небо вот там, за елями, голубое. Нам бы его подольше видеть. А как тебе облака? Большие, белые и совсем бесшумные. Задвигают небо, и много их, и тяжелые, а ни звука!.. А как ветерок треплет траву. Все поля обомнет ветер. Ты зря воображаешь, будто один ты и знаешь толк во всех этих штуках… А как зыбь рвет облака и каждый предмет в зеркале воды четче самого острого взгляда – это ты берешь в счет? А какие метелки у трав? А молчать и все это видеть?.. Ну что ж ты прав, помолчим. Молчать ведь славно…
Лежать на горбато-перекривленных досках неудобно, но та особенная тяжесть тела, когда даже пошевелить рукой невмоготу, делает блаженным миг, когда я вытягиваюсь, наконец, во весь рост. Сено, толсто постланное, опав, сразу дает почувствовать всю твердость пола…
По рассказам, в избе с этим вот сеновалом жил бравый артиллерийский унтер, который из самого Могилева привез весть о дележе господской земли, но в Петрограде еще сидел Керенский, а в волости, уезде и губернии новая власть держалась старых порядков, хотя тоже говорилось много новых слов. И этот унтер стал потом председателем колхоза. В сорок пятом году он раньше других вернулся по демобилизации. А через восемь месяцев этот человек, который не имел ни одного ранения – счастливец, по общему мнению, умер…
Я пил чай из самовара, принадлежащего семейству бравого унтера. На последней войне он был в армейской разведке. А жена его – а так умеют любить по деревням и селам России-умерла за ним. И этот самовар достался сестре бравого солдата, ибо все в рассказах этой ветхой старушонки, прежде, должно быть, статной и сильной женщины, замыкалось на одном слове – солдат. И я впервые понял тогда, что такое солдат для всей этой земли, которую по рождению привычно называю Россией. И на фотографиях, что иконно висели на стене, я разглядывал этого саженного в плечах усатого унтера, который из места царской ставки, с молебнов, от которых все казалось святым и праведным, принес в эту деревеньку крамолу неподчинения. И памятью этого унтера, его рослой улыбчивой жены, впрягавшейся вместе с другими бабами в плуг, чтобы взрастить хлеб и отдать его разоренной и выжженной стране, памятью о трех сыновьях, убитых один за другим в августе сорок первого года, остались лишь фотография и самовар – этот двухведерный великан-самовар, на совесть надраенный и, однако же, тронутый зеленцой по вязи кокетливых ручек. И еще можно прочитать надпись под двуглавым орлом. И жар от его меди доходил до всех уголков избы. Старушка рассказывала, как кроваво кашлял ее брат. И как врач сказал ей по секрету, что от этой болезни нет лечения и требовал лечь в больницу. А брат, потея даже в студеные дни, говорил, что больницей тут не поможешь. А уж, даст бог, родной воздух и выходит. И рассказывал, как в мартовский лед на реке долго выгребал на чужую сторону. И потом, на этой чужой стороне, обмерзая льдом, вылеживал «языка». И как потом тащил его через воду назад. А чтоб не умереть от холода, пил водку сам и давал ее «языку». И как снова и снова ходил уже за другие реки, озера, болота, потому что никто не мог надежнее его выкрасть «языка». Болезнь за восемь месяцев мирной жизни превратила его в скелет…