Великое никогда
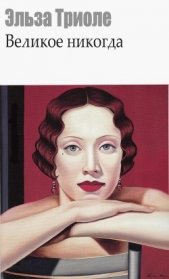
Великое никогда читать книгу онлайн
Роман «Великое никогда» в своеобразной художественной манере и с присущей автору глубиной изложения повествует о жизненных коллизиях, проблемах и нравственных принципах супругов Режиса и Мадлены Лаланд. Опубликовано в журнале «Иностранная литература», 1966 № 07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мадлена разбирала бумаги Режиса, и без Бернара ей было бы еще труднее их рассортировать. Тонны бумаг, настоящие архивные завалы. Хотя она была в курсе трудов Режиса, она просто терялась — слишком уж их было много! К счастью, ей помогал Бернар, тем более что у Мадлены не было ни его знаний, ни его терпения, а возможно, и его пиетета. Случалось, он заливался слезами над каким-нибудь истрепанным листком бумаги, сложенным вчетверо, где лишь с трудом можно было разобрать слова любви, адресованные ей… Должно быть, начало письма… А где она тогда была? В Мексике? В Монреале? Бернар только тогда успокаивался, когда вопрос был выяснен до конца, и заносил бумагу в соответствующий раздел… Мадлена наделала папок из отходов обоев и надписывала на них дату кисточкой, обмакнутой в тушь.
Режис часто говорил с особой своей полуулыбкой: «Обои Мадлены». В его устах это несомненно означало определенное сочетание людей и вещей, кишение и гул — все это равнодушное, как обои. Обои были для него определенным понятием. Мадлене нравились ежегодно выпускаемые обои, их рисунок, качество: одни можно мыть, другие — настоящий бархат, она радовалась, когда ей удавалось откопать старинные обои, прелестные своей старомодностью. Отнюдь не утверждая, что обои — смысл ее жизни, она придавала им немалое значение и никогда не скучала, обсуждая с клиентками, какие выбрать для спальни или гостиной. Режис уверял, что у Мадлены, помимо мысли о заработке, существует еще твердое убеждение, что от того, как оклеены стены, зависит доброе согласие семьи Или супружеской четы. Режис, должно быть, считал, что Мадлена немного колдунья и что от ее советов по части обоев зависит та атмосфера^, какая воцарится среди заново оклеенных по ее совету стен.
Вот уже три месяца, как они, Бернар и Мадлена, возились с архивами Режиса, и это их сблизило, хотя Бернар по-прежнему упорно отказывался быть ее любовником… Нет! Только не сейчас, когда у них перед глазами почерк Режиса, когда они следят за ходом его мысли, когда Режис, в буквальном смысле слова, находится здесь, перед ними. И зря старуха Мари, ее прислуга, глядела на них неодобрительно, она была неправа: они занимались благочестивым делом, увековечивая память покойного. Впрочем, Мадлену ничуть не интересовало, что может подумать о них Мари, ее равнодушие к сплетням и слухам всегда восхищало Режиса. Мадлена была абсолютно бесстыдна.
— Опустите шторы, Мари….
— Если мадам предпочитает сидеть в темноте…
Мари знала Мадлену еще девчонкой, но ей нравилось торжественно величать ее «мадам». И правда, в солнечном свете эта белизна и впрямь резала глаза — можно было ослепнуть от этого блеска, даже не будучи в трауре, Мадлена сама была в белом — сейчас она. как раз тщательно следила за собой, была чистенькая, как фаянс, белая, вся светилась. Бернар, несомненно, чем-то напоминал Режиса, только Бернар повыше ростом и сутуловат. Мари придвинула стол к широко открытой балконной двери. Столик на колесиках, который выкатили из кухни со всякой снедью, туго накрахмаленная скатерть, серебро — все как в американском отеле. Мадлена, самая беспорядочная женщина на свете, уже давно научила Мари накрывать на стол и убирать квартиру.
Бернару было жарко. Очки он снял и положил их рядом с грейпфрутом, лежавшим на льду. — Мадлена, казалось, витала в расплывающемся тумане.
— Мне кажется, я его вижу… — проговорил он.
— Это потому, что ты без очков.
Бернар надел очки. И сразу же Мадлена вошла в свои обычные рамки, обозначился профиль, плечи, черты лица, он разглядел синюю тушь на ее веках, белокурые волосы.
— Мне кажется, я его вижу, — повторил он. — С каждым днем его присутствие становится все более ощутимым. И если я тебя полюблю, то только благодаря ему. Кончится тем, что я буду смотреть на тебя его глазами.
Ветер приоткрыл стеклянную дверь, и по комнате пробежали радужные полосы.
— Нет, не хочу… — возразила Мадлена. — Что ты опять выдумываешь? Мне это неприятно!
— Боюсь, что ты просто не отдаешь себе отчета. Только теперь, когда я вижу масштабы его трудов… Это великий человек. И, возможно, даже глубоко верующий.
— Ну, это ты зря… — Мадлена засмеялась, а Бернар поглядел на нее так, словно она сказала непристойность.
— Не знаю, какими глазами ты его читаешь… Должно быть, глазами неверующей, готовой все повернуть в сторону неверия… Я не религиозен, однако…
— Не болтай ерунды… Поди поцелуй меня. Не хочешь? Предпочитаешь мои гренки? Звонила Лиза. Никак не развяжется с этим наследством, подумаешь, точно он был мультимиллионер. Меня так и подмывало сказать Лизе, что не нужно мне наследства, пускай меня оставят в покое… Из-за каких-то грошей…
Бернар резко поднялся с места. Он сам удивился тому, как ему больно; никогда еще он столь ясно не сознавал силу своей привязанности к Режису. Никто ничего не знает ни о себе, ни о своих чувствах. Уходит человек, и вдруг оказывается… Бывает, еле знаешь человека, а смерть его для тебя катастрофа; другого же видишь чуть ли не ежедневно, и он уходит, не оставив следа. Жизнь продолжается, будто ничего и не произошло. Режис сам говорил ему об этом… Говорил он также, что жизнь — это нечто противоположное долгому путешествию по железной дороге: в поезде нестерпимо долго тянутся как раз последние часы пути, тогда как в жизни — чем ближе к смерти, тем короче становятся годы. Бернару был двадцать один год, он не прошел и половины пути, и его годы точно соответствовали солнечным годам. Относительность времени живет в нас самих: емкость одного часа вовсе не шестьдесят минут, она меняется в зависимости от того, чем его нагрузит жизнь. «Счастливые часов не наблюдают». Что она подлила в кофе, эта колдунья, недаром такая странная тяжесть во всем теле, он дремлет на ходу… Это она оставила Режису морфий. Бернар оперся о косяк двери… Париж вспыхнул и погас, как перегоревшая электрическая лампочка.
— Прости, Мадлена, но я пойду прилягу… Можно?
Она кивнула, послав ему рассеянную, неопределенную улыбку.
Спальня. Их супружеская спальня. Банальная, как эти спальни, что показывают вам в продаваемых квартирах, откуда еще не вынесена мебель, и ее аккуратно расставили для осмотра посетителей. Мадлена не хотела спать на этой кровати, где скончался ее муж, она #Атала теперь в соседней комнатушке, служившей ей кабинетом. Бернар рухнул на постель Режиса. Он не слышал, как вошла Мадлена.
Он не вызвал лифта, даже не подумал об этом. Одиннадцать этажей… Пустынная лестница, по которой никто не спускается и не подымается, казалась никому не нужной, здесь пахло сыростью, как от половой тряпки, пахло заброшенностью, пустотою. Только от дверей, выходящих на площадки, шло какое-то человеческое тепло, оно шло изнутри. Бернар, не застегнув воротничка, перекинув через руку пиджак, зажав в кулаке галстук, спускался по этой пустынной лестнице, словно его выгнали.
Париж незаметно погружался в сумерки. Сколько же времени провел он на смертном одре Режиса, лаская маленькие груди Мадлены? В этой незавершенности — середина на половину, — в этой неполноте чувствовалось что-то порочное, в чем Мадлена не была повинна. Как будто он занимался любовью с несовершеннолетней… Немыслимо… Одиннадцатилетней, не больше. Режис думал, что она ему изменяет, но при жизни она ему не изменяла. Если строго придерживаться фактов. А вот теперь Бернар предал его память, во всяком случае, он твердил это про себя, и от этого у него кружилась голова. Он, Бернар, предал. Совершил самый гнусный из всех мыслимых проступков. Остановившись на тротуаре, словно в ожидании автобуса, он глядел на здание ЮНЕСКО и не видел его. Любовник Мадлены, вот он кто… Бернар твердил это себе с таким чувством, будто наконец-то понял, что он убийца. Он побрел по улицам, опомнился только возле Дворца Инвалидов, обогнул огромное здание и снова погрузился в полузабытье. Нет, дело тут вовсе не в любовном зелье, нет, Мадлена вовсе не колдунья… И вдруг, просто произнеся шепотом это имя, он бросился бежать, расталкивая прохожих… Мадлена!





















