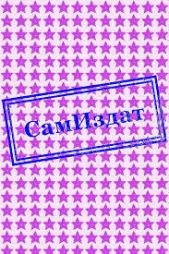И всякий, кто встретится со мной...
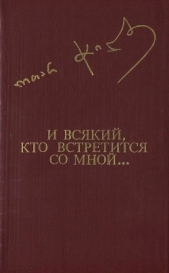
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Садись посвободней… что ты там на пятачке примостился? — сказала ему Дуса.
Придвинувшись к ней тесней, Петре и в самом деле почувствовал себя свободней, почувствовал, как легко он вдавился в жар и мякоть женского тела — как бы сам по себе, без усилий, словно палец в мед. Он сразу притих, доверился этому странному ощущению — и все-таки его мучило что-то невыразимое, невидимое, тайное, будоражащее, непривычное и именно поэтому настойчиво требующее внимания, как пустота на месте вырванного зуба. Дуса лукаво взглянула на него через плечо.
— Вот тебе и конфетка! — сказал Петре.
12
Лучше всего было б, конечно, не встретить их вовсе, успеть вовремя сбежать, удрать, уйти подальше из этого проклятого, обреченного дома, как это сделали ее братья! Но они были старше ее, к тому же мальчишки, и раньше почувствовали закружившееся над семьей несчастье. Она же оказалась жертвой, попала в когти к этому несчастью — маленькая, глупая девочка, судьба которой определилась уже окончательно; ибо на то, на что она не осмелилась вчера, она конечно же не осмелится и завтра — завтра ей станет лишь еще трудней, завтра она увязнет в этом болоте еще глубже! Сардиона она при встрече, разумеется, не поцеловала, но в ту же ночь ей приснилось, что она его целует и с ее губ тоже течет розовая слюна. «Ничего, ничего… сейчас все отмоем!» — успокаивала ее Агатия, во сне шедшая вместе с ней к несуществующему роднику. Он был как будто совсем близко, его журчание раздавалось прямо в ушах Аннеты, но она проснулась, так и не увидав родника, так и не успев отмыть свои испачканные розовой слюной губы. Теперь ей оставалось только терпеть — терпеть и непривычно самодовольного, молодцеватого (а порой все-таки вдруг глядевшего на нее глазами побитой собаки) отца, и нескончаемый грохот барабана, и вечно непричесанную, в любой момент дня, казалось, готовую улечься в постель бабу, домашние тапочки и груди которой в полутьме комнат издавали удивительно похожие шлепающие звуки. Мачеха вовсе не сунула в руки падчерице веник и совок, как это положено в сказках, не переселила ее в хлев, не надавала ей невыполнимых поручений, а просто засыпала ее конфетами — таким количеством конфет, что их давили ногами, а потом Агатия целую неделю скребла полы ножом! Мачеха вовсе не стала, как в сказках, доказывать Аннете, что ее сын лучше, — она попросту расцеловала девочку в обе щеки и крепко прижала ее к груди; но не как падчерицу, которую любишь не меньше собственного ребенка, хоть и видишь впервые в жизни, а как свою давнишнюю приятельницу, которую не видела целую вечность и по которой крайне соскучилась. Она восприняла Аннету не как дочь, а как свою подружку! «Я всегда все пойму, во всем тебе помогу…» — шепнула она на ухо девочке при знакомстве, перед тем как поцеловать ее; шепнула так, чтоб этого не услыхал никто вокруг, ибо стать друзьями надлежало не всем вокруг, а лишь им двоим. В эту первую минуту знакомства она успела шепнуть и многое другое, но четко, неизгладимо Аннете запомнился лишь сладкий, тошнотворно-сладкий запах, насквозь пропитывавший эту чужую бабу! «Все женщины одинаковы, и старшинства между ними нет…» — сказала эта баба, одним выдохом, как пушистый одуванчик, разрушив и простодушно-святое представление о любви и супружестве, склеившееся у Аннеты из сказок и отдельных слов матери и няни. Взамен этого она за бесстыдно короткий срок приобщила Аннету к таким тайнам, с которыми той было бы лучше знакомиться постепенно, а не узнай она их вовсе, тоже никакой беды не было б! Отношения женщины и мужчины, бывшие прежде для Аннеты таким же естественным чудом, как цветение и плодоношение дерева, покрылись вдруг холодной, жуткой пеленой противоестественной необходимости. Она чувствовала, как внутри у нее начинает копошиться что-то непристойное, упрямое, безжалостное, похожее на загнанную в угол крысу; и она с любопытством и омерзением прислушивалась к собственному телу, проверяла, разглядывала это тело, не ставшее женским в любви, а попранное, униженное опытом чужой, давно уж развращенной жизнью женщины. Хорошо, что существовала хоть ночь, что хоть на ночь ее оставляли в покое! Впрочем, и ночи были теперь мучительны: по ночам погрузившийся в темноту дом наполнялся приглушенным похотливым хихиканьем мачехи и хриплым шепотом отца; и Аннета, лежавшая на своем девичьем одре неподвижно, как труп, как бы обесчещенная этим похотливым хихиканьем, раздавленная этим хриплым шепотом, с болезненным волнением воспринимала прикосновение каждой пылинки, каждую ночную тень или шорох. «Ведь они знают, как я мучаюсь… они этого хотят!» — думала она. Проходила целая вечность, прежде чем ее окно начинало белеть. «Агатия, Агатия!» — раздавался крик Кайхосро; потом начинал греметь барабан, и Аннете приходилось в который раз вставать, одеваться, умываться, в который раз садиться за стол вместе с остальными членами семьи — ведь она была одной из них, похожей на них, их неотъемлемой частью!
— Вытри рот, чтоб ты сдох… — орала Дуса.
Но она следила не столько за тем, чтоб ее дурачок выполнил это требование, сколько за Аннетой. Аннете она улыбалась снисходительно, как учительница ученице, — и Аннета сидела, вся съежившись, такая испуганная и бледная, словно ее тошнило. Она чувствовала, что гибнет; в ней не осталось и частицы той смелости, с которой она прежде разговаривала с Агатией. С Агатией, только она, видно, храбриться и могла — она знала, что та ее любит, что та всегда не только поймет, но и простит эту храбрость. Теперь они с Агатией почти не виделись: розовая слюна и тошнотворно сладкий запах заполонили буквально каждый уголок дома, в котором они могли бы уединиться, поговорить о своей боли. Агатия ковыляла где-то вне ее заколдованной жизни — теперь Аннета лишь изредка видела ее знакомое с рождения, родное, беспомощное, сразу постаревшее, растерянное, одинокое лицо. Зато Дуса была вездесуща: едва одетая, с грудью нараспашку, с красными пятнами на открытой шее, вся багровая от страстей отца Аннеты…
— Ты, деточка, попроси, чтоб тебе кто-нибудь груди помял, до каких пор они у тебя как у мальчишки будут? — говорила она Аннете; и у Аннеты так пересыхало в горле, так застывали руки и ноги, словно на грудь к ней вползала змея!
Их отношения походили на отношения двух потаскух— многоопытной и начинающей; на отношения, в которых корысть играет куда меньшую роль, чем неосознанная и беспощадная жажда мщения. «Она тоже несчастна… — думала Аннета. — Она не понимает, что можно и любить кого-то: не знать его, но любить; не знать, но доверять; не знать, но верить! Он может прийти или нет, не это главное — сукой становишься не от этого. Главное — как ты любишь, как доверяешь, как веришь и сколько можешь ждать без всяких залогов и обещаний…»
Так и жила Аннета до тех пор, пока смерть Агатии, а потом и Кайхосро (впрочем, установить точно, кто из них умер первым, не удалось — просто труп Агатии нашли сначала, а Кайхосро потом) не убедили ее в том, что жить так она больше не может, не выдержит! Труп Агатии обнаружила Дуса — выйдя зачем-то чуть сеет во двор, она с криком кинулась назад, вверх по лестнице; но и до того, как она сумела объяснить, что произошло, Аннета уже все поняла, словно увидав в испуганных глазах мачехи болтающуюся на веревке Агатию. Но, спустившись во двор, она, в отличие от Дусы, не закричала: на лишенные опоры, висящие в воздухе ноги она глядела не со страхом и жалостью, а с гордостью и уважением, которые вызывает у человека героический поступок, совершенный другим, подобным ему человеком. Агатия повесилась на ветке той липы, под которой оставлял обычно свою двуколку доктор Джандиери. Ее шлепанцы валялись на земле рядом с опрокинутым стулом.
Тело Агатии втащили в хлев, и выведенный оттуда, снова потрясенный человеческой смертью осел со взъерошенной шерстью и неподвижными глазами стоял у ограды под первыми лучами утреннего солнца. Сидя на ступеньке лестницы, как она это делала в детстве, Аннета молча глядела на осла. Она была еще в ночной рубашке и, дрожа от холода, невольно сжимала пальцы босых ног. С ветки липы, на которой только что висела Агатия, свисал остаток перерезанной ножом веревки; другая ее часть находилась в хлеву, на шее Агатии. Стул и шлепанцы по-прежнему валялись на земле. «Была б тут коляска, она не смогла б… коляска помешала бы…» — бессмысленно думала Аннета, глядя на осла; и от жалости к ослу у нее разрывалось сердце.