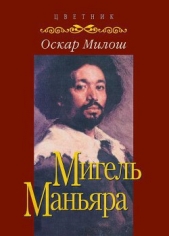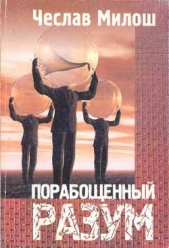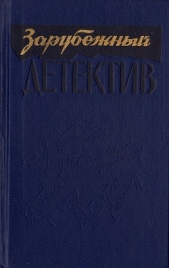Долина Иссы

Долина Иссы читать книгу онлайн
"Долина Иссы" - книга выдающегося польского поэта, переводчика и эссеиста Чеслава Милоша. Своё первое произведение, "Поэму о замороженном времени", он выпустил ещё в 1933 году, а последнее - в 2004, перед самой смертью. В 1980 году писатель получил Нобелевскую премию за то, что "с бесстрашным ясновидением показал незащищённость человека в мире, раздираемом конфликтами". Друг Милоша Иосиф Бродский называл его одним из самых великих поэтов XX века. "Долина Иссы" - это роман о добре и зле, о грехе и благодати, предопределении и свободе. Это потерянный рай детства на берегу вымышленной реки, это "поиски действительности, очищенной утекающим временем" (Ч. Милош). Его главный герой - alter ego автора - растущее существо, постоянно преодолевающее свои границы. Как заметил переводчик Никита Кузнецов, почти у всех персонажей книги есть реальные прототипы. Даже имение, где происходит действие, напоминает родовое поместье Милоша в селении Шетейне (лит. Шетеняй) на берегу речки Невяжи (Нявежис). Агнешка Косинска, литературный агент Милоша, рассказала, как ребёнком Чеслав убегал в сады и поля, за пределы поместья. Он знал латинские названия всех птиц, водившихся в этих краях. "Книга просто насыщена этим счастьем", - уверена она. После войны писатель решил не возвращаться на родину и остался в Париже. Тосковал... И работа над романом исцелила автора - он перестал чувствовать себя изгнанником. К тому же польско-французский писатель Станислав Винценз убедил его в том, что эмиграция - это не "непоправимый разрыв с родной почвой, традицией, языком; скорее, она помогает углубить с ними отношения", пишет Томас Венцлова в послесловии к русскому изданию романа. Никита Кузнецов признался, что начал переводить роман для себя - и "переводил книгу гораздо дольше, чем Милош её писал!" Если автору хватило года, то переводчику потребовалось четыре. Чтобы лучше представить место действия "Долины Иссы", Кузнецов даже поехал в Шетеняй и встретился со старожилами! Примечательно, что сам Милош тоже побывал в местах своего детства - и написал цикл стихов, вошедший в сборник "На берегу реки". Никита Кузнецов рассказал о трудностях перевода. Роман написан поэтической прозой, поэтому было важно сохранить интонацию, внутренний ритм текста. К тому же в книге немало литовских слов и реалий, нередко уже исчезнувших. А ещё важно было передать многослойность "Долины Иссы". На первый взгляд, это роман о взрослении мальчика Томаша Дильбина. Но если приглядеться, можно обнаружить фольклорные мотивы, затем - исторический, философский, богословский слои... Сам Милош называл книгу "богословским трактатом". Книга была переведена на русский язык спустя более полувека после издания. Роман, несомненно, войдёт в ряд бессмертных произведений, открывающих мир детства. Эти полотна в прозе создавали разные творцы, от Аксакова до Набокова. С выходом романа на русском языке в их плеяде засияет и Чеслав Милош.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Листья красные, Исса дымится среди порыжевшего аира. Иногда они запрягают лошадь и едут по деревням навещать друзей матери — еще с девичьих времен. Жбаны с пивом стоят на столе, и попыхивают трубки, и поднимаются стаканы, и дети, и собаки, и зеленые, расписанные цветами сундуки. Из сеней пахнет сыром, молочной сывороткой, яблоками, на перекладинах лестниц усаживаются куры: ленивое спокойствие избы в то время года, когда работы в поле закончены, и хозяйство замыкается в себе, в прямоугольнике двора. Грязь на дорогах мягко хлюпает, переливаясь сквозь спицы колес. Печь уже топится, в сумерках хорошо смотреть на огонь и ни о чем не думать. Розовый свет, пусть все так и остается, — но постепенно угли гаснут, все меняется, темно, а двигаться не хочется.
Фитиль лампы, у которой абажур с одной стороны белый, а с другой зеленый, надо долго подрезать ножницами, чтобы он не оставлял на стекле черных следов. Томаш делает уроки, она откладывает спицы со свитером и слюнит карандаш, чтобы исправить его задачу. Потом придвигает стул к его стулу, они сидят, прижавшись друг к другу плечами, круг лампы, они здесь, а за окном в саду ухают совы.
Однако от случившегося нелегко освободиться. Как-то раз она спросила его, кем он хотел бы стать. Он покраснел и потупил голову.
— Я… Наверное, священником.
Она насмешливо смотрела на него.
— Что за глупости ты плетешь. Почему же именно священником?
— Потому что я… Потому что я…
Он глотал слезы, не в силах их остановить. Он не мог выдавить из себя: "Потому что я не попал в козла и беспокоился, что ты забыла об обете", — впрочем, это была бы не вся правда.
— Потому что я… хуже других.
Благодаря тому, что священник носит сутану, ему можно быть не таким, как все люди, — предъявляемые к ним требования его не касаются. Вот что он пытался объяснить.
Выражение ее лица было таким, что он должен был добавить:
— Да, вот так.
— Ничего-то ты о себе не знаешь.
Он отвернулся и процедил сквозь зубы:
— Я не хочу быть один.
Так дверь открывается только раз: лицо над серым свитером под горло и незнакомка — лучится, зовет, ждет, влечет. Он, застыв, не может понять и внезапно, с криком — прыг, руки оплетают его: она. Нет, это уже никогда не повторится.
Сон спокоен. Она укутывает его одеялом, ее поцелуй ласково провожает его в гущу ночи. Ее шаги удаляются, а Томаш, уткнувшись носом в подушку, размышляет: что он может ей дать? Тетрадь с птицами? Нет, это было что-то другое. "Но ведь я люблю ее".
LXVII
Вечером накануне дня св. Андрея лили воск: у матери получился венок из цветов или терний — неизвестно, а у него — плоский лист с тенью, напоминающей Африку; и на нем крест. Сразу после этого выпал снег, клубы пара вырывались изо рта людей, которые, входя, громко топали, чтобы стряхнуть с каблуков стеклянистую массу. Движущееся хрустящее месиво на Иссе превращалось в лед. Приближалось Рождество — не такое, как всегда: пустая тарелка, которую ставят в сочельник для странника, теперь действительно была для кого-то незнакомого, а не как в прошлые годы с тихой надеждой: вдруг приедет мать? Не Антонина, а она занималась теперь вместе с Томашем подготовкой к празднику: сама приготовила борщок с ушками[92] и слижики.[93] Слижики — это кусочки теста, скатанного в валик, которые пекут, пока они не затвердеют как камушки. В тарелке их поливают сытой — на столе стоит полный ее кувшин. Сыта состоит из воды, меда и тертого мака. Томаша не слишком интересовали блюда между борщом и сладким. Он накладывал себе в глубокую тарелку клюквенный кисель и пухнул от любимого кушанья, а сено, которое кладут под скатерть в память о том, что младенец Иисус лежал в яслях, служило мягким матрасом для его локтей, когда он уже изнемогал от обжорства. Потом они с матерью пели колядки под елкой, и она учила его новым, незнакомым. Они зажигали конюшенный фонарь и шли на Пастерку,[94] увязая в рыхлом снегу.
Мать Томаша была женщиной практичной и решила, что на зиму они останутся в Гинье. В мороз переходить через границу слишком тяжело, а, кроме того, надо было подождать и по другим причинам. Дела отца Томаша шли по-разному, но чаще всего — скверно. После всевозможных перипетий с увольнениями он мыкал горе в должности муниципального чиновника. Хелена получала свою долю в виде земли, значит, и Текле что-то полагалось; но, чтобы раздобыть деньги, которые можно будет обменять на доллары, надо обмолотить и продать зерно, дождавшись хорошей цены. Пришла ей в голову и смелая идея, услышав о которой Хелена воскликнула: "Ты с ума сошла!" Идея заключалась в том, чтобы контрабандой провезти через границу пару лошадей: такой породы крепких низкорослых лошадок кроме как в Литве, нигде нет — значит, в подарок мужу. Но ведь она одна еле пробралась — как же с лошадьми? Глупости, все получится.
Эта граница, открытая только для контрабандистов, волков и лис, ибо город Вильно поляки считали своей собственностью, а литовцы — бесправно отнятой поляками столицей, была для многих сущим наказанием. Мать выбрала коней, четырехлеток, обоих буланых с темной полосой вдоль хребта. Кони эти должны были довезти их до самого дома, причем она рассчитывала на свою удачливость и на то, что пограничников удастся задобрить, если поблизости не будет офицеров и если не получится проехать так, чтобы совсем никто не заметил.
Белый пух в оконных нишах и тишина, а в ней монотонное посвистывание снегирей, шелушащих семена сирени. Приближающееся путешествие пробудило в Томаше интерес к географии Для этих уроков использовался немецкий атлас изданный в 1852 году. Мать исправляла в нем карандашом границы государств, ибо многие из них имели теперь другие контуры. В атласе не были обозначены ни Гинье, ни окрестные селения. Обижаться на это не имело смысла, но Томаш думал о картах вообще: ты тыкаешь пальцем в какую-нибудь точку, а там, под пальцем — леса, поля, дороги, деревни, ходит множество людей, и каждый из них особенный, чем-то отличающийся от других. Ты поднимаешь палец, и ничего нет. И если в костеле у него появлялся соблазн воспарить и смотреть сверху на коленопреклоненных людей, то здесь ему хотелось раздобыть волшебное увеличительное стекло, которое извлекало бы из бумаги все, что там кроется. Чем больше внимания уделяешь этому пространству с его очертаниями материков, кружочками и линиями, тем больше оно привлекает. Это все равно, что ваять две цифры — один и два — и представлять себе, что там между ними. Если бы можно было нарисовать карту; на которой были бы обозначены все дома и люди, — где каждый из них стоит или куда идет, — то ведь остались бы еще лошади, коровы, собаки, кошки, разнообразные птицы, рыбы в Иссе. А если и их нарисовать — то блохи на собаке, и блестящие жуки в траве, и муравьи, и так далее. Значит, карта всегда бывает неточной. И, корпя над ней, делаешь еще одно открытие: здесь, на стуле я один, а там, под моим пальцем, задержавшимся над пустым местом, где должно быть Гинье, — другой. Я указываю на уменьшенного себя. И этот другой "я" — не такой, как "я" здесь, но уравненный, смешанный с другими людьми.
День прибавлялся. Дедушка возвращался из поездки по делам в очень хорошем настроении, потому что его усилия наконец возымели действие. Ему обещали, что власти признают раздел Гинья между ним и Хеленой. В конечном счете донос Юзефа не повредил. Юхневичи должны были переехать после Юрьева дня — их имение действительно парцеллировали.
Вот уже и Вербное воскресенье — правда, без зайчиков на вербах, среди мороза и снега: в этом году весна запаздывала. Потом из-под перегнивших листьев и хвои пробивались голубые цветы печеночницы, а Томаш размышлял, что это последняя весна, и, может быть, он уже никогда сюда не вернется. Он долго бродил по парку, пока, наконец, не присмотрел местечко на склоне, посреди квадратной полянки. Выкопав молодой каштан, он перенес его туда и посадил. Если когда-нибудь он снова окажется в Гинье, то первым делом побежит на эту полянку проверить, каким большим выросло его дерево.