Великое никогда
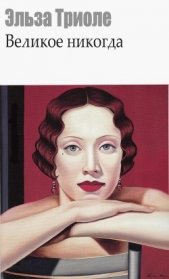
Великое никогда читать книгу онлайн
Роман «Великое никогда» в своеобразной художественной манере и с присущей автору глубиной изложения повествует о жизненных коллизиях, проблемах и нравственных принципах супругов Режиса и Мадлены Лаланд. Опубликовано в журнале «Иностранная литература», 1966 № 07
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти мерки служат лишь для того, чтобы облегчить общение между людьми. Как алфавит, как языки… Но существуют разные алфавиты и разные языки, и существует лишь один способ определять время, даже если в Нью-Йорке и в Париже оно не совпадает. Из всех переводов самый легкий это перевод часов; причина различий продиктована солнцем, этими часами-эталоном, и она насквозь ясна: вычли, сложили, и дело в шляпе. Природа, животные обходятся без часов, и если вам захочется поймать крота, смело идите к нему на свидание, он обязательно будет на месте — точно в положенный час! Что или кто подсказывает ему это ощущение часа — то, что стрелка стоит, скажем, на шести? Солнце? Внутреннее чутье? Пожалуй… Но все-таки прибыть без всяких часов минута в минуту, как поезд, точно в назначенный срок… Нет, крот куда хитрее меня, низко ему кланяюсь.
И все-таки… Измерить время! Измерить понятие… Мы его разграничиваем, ограничиваем, столбуем, ставим вехи. Иначе мы жили бы в уныло-однообразной пустыне, бродили бы по ней и никак не могли бы встретиться друг с другом, когда того пожелаем. Но мы хитрые, мы условились повсюду ставить вехи, указывать, отмечать, и поэтому мы являемся к антиподам на свидание с другого конца света в точно назначенный час и в точно указанное место. Если бы человек жил среди природы, совсем один, он не нуждался бы ни в мерах, ни в вехах… разве чтобы сварить яйцо… или высчитать, сколько требуется времени, чтобы сгнить на корню и перестать существовать. Это очень важно знать, когда в жизни что-то делаешь. Матисс при мне говорил как-то, что ему, здраво рассуждая, осталось жить столько-то лет, что у него еще есть впереди время написать то-то и то-то… „Научиться писать“, — добавил он. Ну, а если нам нечего в жизни делать? Что тогда измерять? Мера времени хороша лишь для упорядочения нашей деятельности; чтобы измерить время, которое превращает нас в труп. Если мы в щедрости душевной откладываем смерть до своего восьмидесятилетия, можно, в таком случае, вести счет наоборот, на манер радистов перед микрофоном, считающих от пятерки к нулю. Восемьдесят при рождении, потом остается… семьдесят девять, семьдесят восемь… И так далее. А в нулевой год мы становимся трупами. Или еще можно так: минус один год, минус два, минус три…
Только само время неуязвимо… Бывают различные трансформации в пространстве, но что, по-вашему, может происходить внутри этого полого бурдюка, именуемого временем? Оно не субстанция, с ним не может случиться ничего такого, что случается с тленной материей. Повторяю: пространство загромождено твердыми и текучими элементами, оно эволюционирует, но что, по-вашему, может случиться с пустотой?.. Время — оно лишь оболочка, емкость. Время и пространство… Странный союз материального и отвлеченного… Время… это слово употребляют чаще, чем имя божье, и даже не знают, что за ним скрывается. Говорят: „Время проходит…“, приклеивают к слову „время“ какой-нибудь глагол, заставляют его двигаться, тогда как оно лишь сосуд, да, да, огромный бурдюк, куда мы складываем вещи, независимо от их оболочки. Проходит наша жизнь, а вовсе не время. Время не изменяется, не эволюционирует, изменяемся мы, мы эволюционируем и еще обвиняем в этом неповинное время… Время — это лишь пространство в действии.
Я бьюсь, как муха, прикрытая стаканом. Я все вижу через стекло, я не могу выбраться и попасть по другую его сторону. Самое простое было бы смириться, устроиться в стакане, установить его размеры и жить сообразно им. Но я-то вижу через стекло! Пусть не так уж далеко вижу, не спорю, однако я знаю, что существует нечто по ту сторону стакана. И я начинаю суетиться, разбиваю себе крылья и голову о прозрачную перегородку. Я живу в стакане, как говорят: „жить во времени“. Живут во времени, внутри него; люди менее красноречивы, чем язык слов, человек существует только „от сих до сих“, а то, что выражает наш язык, является опытом множества поколений. Результат: мы живем во времени. Когда употребляют выражение „со временем“, это значит совсем другое. А роман? Он не протекает во времени, он не ставит нас рядом со временем — он впереди. Должен быть впереди. Только роман, поэзия могут прийти нам на помощь, когда мы до боли отбиваем себе крылья. Стоит нам подметить их игру по ту сторону стакана, радужную их игру, и вот мы уже не отрываем глаз от прозрачности: что-то непременно должно появиться!
Пока меня незаметно унесло течением в сторону романа, у Мадлены, не обладающей чувством времени, зазвонил телефон.
Мадлена в постели, с ощущением горечи во рту. Должно быть, действительно пора вставать, раз ей звонят… Да… Звонила мадам Верт. Мадам Верт считала, что отсутствие Мадлены слишком затянулось… Дела ждут. Послушайте, Мади, всему же есть пределы… Связь с внешним миром восстановилась, слово „время“ вновь приобретало смысл. „Я сегодня заеду“… — пообещала Мадлена.
Она аккуратно сложила бумаги, которые решила взять с собой, рассчитывая посвятить все свои вечера и ночи перепечатке рукописей Режиса. Не забыть бы „Любовную переписку“. Все прочее она как попало швырнула в чемодан. Надела платье, бросив брюки прямо на пол. Меховое манто. Красоту она наведет в Париже, ей все равно обязательно нужно сначала заехать к себе, чтобы запереть рукописи в сейф, поставленный специально для этой цели. Вдруг Мадлена громко произнесла: „Надоело…“ И остановилась на середине лестницы с чемоданом в руке. Ей любой ценой необходимо найти молодого энтузиаста, на чьи плечи можно было бы переложить весь этот груз. Но Никола Рибер умер, и она не знает, где его искать, этого молодого энтузиаста. Ладно, подумаем на досуге.
Откровения такого рода, осенявшие Мадлену, приходили к ней удивительно не вовремя, некстати, посредине лестницы. Но теперь самое главное — не заставлять ждать мадам Верт. Мадлена бегом спустилась с лестницы, прыгнула в машину.
У ворот стоял бродяга и даже приплясывал от радости, что Мадлена уезжает. Она высунула голову из окна машины: „Хорошенько заприте! И осторожнее с огнем!“ Бродяга по-военному козырнул в ответ. Рука его была похожа на черную черепаху.
IV. Мертвое время
В жизни Мадлены наступил период мертвого времени. Ага! Вот я вас и поймала с поличным! Раз время всегда „проходит“, и даже необратимо проходит, как же оно может быть „мертвым“? То, что мертво, больше не движется. Или, по; крайней мере, не движется в определенном комплексе, к примеру, в человеческом комплексе. Мертвый человек не движется, даже если его гниющее тело кишит червями. Не будем играть словами: мертвое время есть такое время, когда ничего не происходит, а раз ничего не происходит, время останавливается. Почему это всегда событие, действие, любые перемены тем или иным манером подменяют словом „время“? Это неправильно. Разве одно и то же время управляет жизнью человека, мотылька-однодневки, каменной глыбы? Если уж нам требуется употреблять понятие „время“, не будет ли правильнее измерять его степенью изменения материи? Правда, мы говорим, что собаке десять лет, хотя органические изменения у собак происходят в семь раз быстрее, чем у человека, и собака в десять лет по нашему человеческому счету уже достигла семидесятилетия. Арагон где-то приводит этот пример. Семьдесят лет необратимости. Но, в конце концов, это то же самое, что валюта различных стран: доллар равняется стольким-то франкам. На бумаге. Потом оказывается, что это вовсе не так, ибо покупательная способность, заработная плата, потребности в этих двух странах не одинаковы. Мерка времени — тоже фикция, час — это долго, когда ждешь любимого, час — это коротко, когда вам осталось прожить всего этот час. Все мерки, которые изобрел человек, подвержены биржевым колебаниям существования. Возьмите роман: столько-то страниц, столько-то часов на его чтение, и вы уже проглотили digest[9] о Столетней войне, или об убийстве, или о путешествии. Искусство романиста заключается в том, чтобы дать читателю таблетку, вызывающую определенные реакции: скажем, от аспирина вы вспотеете, а морфий утолит вашу боль. Это язык красноречивых глухонемых. Романисты заселяют вселенную безмолвными бабочками-словами, которые несутся тучей нам на радость или на горе…





















