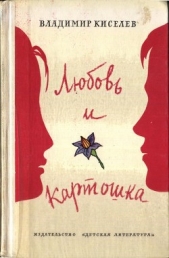Свадебный круг: Роман. Книга вторая.

Свадебный круг: Роман. Книга вторая. читать книгу онлайн
В романе известного кировского прозаика рассказывается о судьбах наших современников, становлении характеров молодых людей, их отношении к делу, к жизни, к любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Серебров ехал в Тебеньки к Чувашову, просил прикатыватель. Но и в самые занятые дни выкраивал он часок, чтоб заглянуть в крутенскую больницу к дочери.
Нянечки привыкли к появлению Сереброва и охотно передавали гостинцы, иногда пускали в палату. У Сереброва что-то начинало теснить в груди, когда он видел Танечкино бледное личико с подвижными бровками, тянущиеся к нему ручонки.
Веру эти визиты сердили. Сначала она молча, с неодобрением терпела Сереброва, а однажды, встретив в больничной калитке, обрезала решительно и непримиримо:
— Вот что, Гарольд Станиславович, хватит. Больше не ходи. Танечка лепечет о тебе, а мне это не надо. Понимаешь? Ни к чему это, — и с мольбой прижала к груди руки.
Сереброву хотелось ласково взять эти руки в свои, но он не решился. В Вериных глазах стояло страдание, в голосе звучали досада и боль. Вот-вот прорвется слеза.
— Чем тебе из Ильинского ездить в такую даль, я по пути заскочу, — с показной успокаивающей простоватостью говорил Серебров. — Я ведь каждый день бываю в Крутенке.
— Не надо. Слышишь, не надо! — повторила Вера, и обида зазвенела в ее голосе.
Несмотря на запреты, Серебров продолжал заезжать в больницу. Содрав в раздевалке пахнущую машинами куртку, он накидывал поверх пиджака халат и с радостным волнением входил в палату. Танечка узнавала его и, встав в кроватке, печально улыбалась. Глазенки усталые, и такой разумный был взгляд, что у Сереброва каждый раз сжималось что-то в груди. Он, конечно, он был виноват в том, что у Танечки уже в два года был такой озабоченный, серьезный взгляд.
Серебров приносил дочери кукол, пластмассовых белок и зайцев, иногда ему удавалось почитать ей на разные голоса сказку «Три медведя». Девочка улыбалась. Но Сереброву казалось, что она смеялась не так, как смеются имеющие отцов ребятишки. Танечка долго его не отпускала, повторяя: «Иссе! иссе!» Он целовал ее клейкие от конфет пальчики, к которым прилипали какие-то пушинки.
— Еще — нельзя, машина ждет, — говорил он ласково и, разжимая пальчики, вставал. — Я тебе привезу Буратино. У него длинный нос и глупые глаза, а ты не плачь. Я обязательно привезу.
Иногда Танечка, успокаивалась, иногда плакала, и у Сереброва подступала к горлу терпкая волна от ощущения этого детского несчастья.
— Милая ты моя кроха! — шептал он.
Раза два Серебров сталкивался в больнице с матерью Веры — Серафимой Петровной. Лицо ее приобрело признаки старости, стянуло морщинками губы, побелило сединой виски. Серафима Петровна огрузла. В глазах ее он читал укор. Хорошо, что Серебров не столкнулся здесь с Николаем Филипповичем, но вряд ли банкир наведывался в больницу. Шел слух, что Вера по-прежнему не ладит с отцом.
Конечно, вся Крутенка уже знала, что неспроста Серебров наведывается в больницу. Полузабытые слухи и подозрения, осевшие в чьих-то памятливых головах, теперь всплыли снова. «Пусть болтают», — равнодушно думал он. Появилось что-то, заставлявшее его не опасаться такой молвы. Ему вдруг опять стало до рези в сердце ясно, что Вера и Танечка — единственные родные люди. И ему надо вернуть их. А Веру определенно эта молва раздражала. Встретив Сереброва в больничной раздевалке, она посмотрела на него уже совсем враждебно, губы задрожали, и слетели с них упреки не только за то, что он ходит к Танечке, но и за то, что травит ее, Веру.
Он пытался успокоить, убеждал, что нет тут ничего обидного для нее, а тем более издевательского, а у Веры на страдающем лице опять отразились обида и презрение.
— Не надо душу мне травить, ты слышишь?! — повторила она, надевая больничный халат.
— Ну, Вера, ну, давай поговорим по-хорошему, — просил он, держа в руках свою куртку. — Я много передумал. Мы должны быть вместе…
Вера, резким движением ладони утерев глаза, ненавидяще прошептала:
— Не приходи! Я тебя прошу, не приходи! Тебе кажется, что это чуткость и доброта, а это — пытка. Неужели тебе не понятно?
Раньше бы он вспылил и ушел, а теперь и вспыльчивость, и гордость куда-то исчезли. Он стоял перед ней, колупая выбоину на больничном подоконнике, и продолжал путанно объяснять, что не может теперь без них, что ближе их у него никого нет.
— Давай договоримся раз и навсегда, — хрипло оборвала Вера. — Мы чужие люди. Ты не знаешь меня, я — тебя. — Лицо ее вдруг обмякло, губы некрасиво задрожали, расползлись, и Серебров почувствовал себя злодеем, палачом и мучителем.
— Ну, извини, извини, — покаянно проговорил он.
— Уходи, слышишь уходи! — с ненавистью выдохнула она, судорожно ища в сумочке платок. Он побито вышел из больницы и затопленной грязью улицей побрел к «Сельхозтехнике».
Через два дня он все-таки не выдержал и опять зашел в больницу с Буратино в руках. Когда он шагнул с солнца в затененный вестибюль, сбросившая дрему санитарка сочувственно протянула:
— Ой, жданной, дак уж выписали Танюшку. Уехали они, недавно уехали. Заходил рыжой учитель из Ильинского, который клубарем-то работал, дак он и увез. На мотоцикле с коляской был. Увез.
Серебров, выскочив из больницы, ужаснулся, как Вера решилась везти больную Танечку на мотоцикле?!
Он подогнал машину к автобусной остановке, потом к автостанции: может, еще найдет их? Но Веры там не оказалось. Потом он решил, что догонит автобус, в котором наверняка уехала Вера, или поймает злополучный мотоцикл. Дернул черт приехать этого Валерия Карповича! И вдруг он вспомнил намек завроно Зорина. Этот хлипкий, золотушный, но веселый мужик, повязывая под шапку женский головной платок от простуды, сказал:
— Ты, Гарольд, ухо востро держи. Не прохлопай Верочку, а то за ней приударяют. Учителя тоже не промахи.
Серебров тогда усмехнулся. А теперь понял, кто «не промах» в Ильинском. Валерий Карпович, вот кто!
Сереброву никогда не нравился этот Валерий Карпович. Казались неестественными его повадки плохого драмкружковца. Здороваясь, он изображал рубаху-парня и с замахом хлопал по руке.
Говорил, встав в позу, что ему не дают ходу, зажимают. Окончательно осердившись на клубную работу, которая не приносила ему ни должного уважения, ни средств, ударился по оформительской части: малевал для колхозов плакаты, диаграммы, графики. Его кривобокие коровы и похожие на степных сайгаков овцы были изображены на всех придорожных и при-конторских щитах. В глаза и за глаза называли Валерия Карповича Помазком.
Как-то Серебров посадил Валерия Карповича в машину. Тот был в испятнанном краской черном не то плаще, не то халате, с фанерным ящиком на брезентовом ремне. На лице еще больше прибавилось веснушек, словно брызги от сурика. В потускневших глазах ожесточенность. Видно, и от Сереброва ждал вредных вопросов, поэтому сразу объяснил:
— Отпуск у меня, а я работаю. Очень даже удивительно почему, да?
— Да, удивительно, что же ты себя истязаешь? — откликнулся насмешливо Серебров.
— А очень даже ясно. У меня ведь бабки миллионерши нет, а мне надо «жигуленка» или «москвича» купить. Я в секрете не держу, надоело всю жизнь стоять на обочине с поднятой рукой и глотать пыль.
Видно, пришел Валерий Карпович к неожиданному для себя выводу, что прозевал чего-то в жизни, и вот начал судорожно наверстывать потерянное: в школе брался преподавать все — от физкультуры до математики, соглашался, если за деньги, плясать Дедом Морозом на детских елках.
«Неужели Вера, умный человек, не понимает, что не тот человек — Валерий Карпович?» — с мучительной обидой думал Серебров по дороге в Ложкари. Ему стало до того нехорошо, что он остановил машину и вышел на обочину дороги. Внизу свежо и умыто стоял лес. Стволы осин, толпившихся в подлеске, были зелены от молодой весенней силы, хотя в распадках еще по-зимнему, гребешками, тянулись снежные суметы. Невидимые пичуги отчаянно и задорно перепевались, создавая свой неведомо как организовавшийся оркестр. Серебров поразился: птицы знали толк в музыкальной грамоте. Вступала одна со своим немудрым чивиканьем, а где-то вдали другая поддерживала ее и с такой россыпью начинала насвистывать, что не удерживались остальные и включались в слаженный оркестровый перелив.




![Свадебный букет [СИ]](/uploads/posts/books/81238/81238.jpg)