Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва
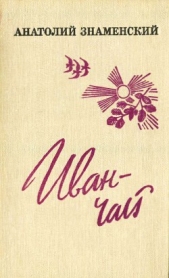
Иван-чай: Роман-дилогия. Ухтинская прорва читать книгу онлайн
Романы краснодарского писателя Анатолия Знаменского «Ухтинская прорва» и «Иван-чай» представляют собой дилогию посвященную истории освоения нефтяных богатств нашего Севера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На вид ему было лет тридцать шесть. Загорелое, со свинцовыми подпалинами на щеках лицо было серьезно и бесстрастно. Он совсем не походил на привычную и знакомую всем фигуру политика-интеллигента. Скорее всего, это был рабочий, совсем недавно узнавший истинную цену своего социального положения и всю ответственность этого звания — рабочий.
— Ну вот, я вылез, — заметил он. — Между прочим, прошу не употреблять матерных слов, ибо вы компрометируете государя императора…
«Не политик, — заключил Яков, — уважает царя…»
— Молча-а-ть! — с непонятной яростью завизжал старшой, и Яков окончательно запутался. Дело было нечисто определенно.
— Кроме того, предупреждаю: усугубление может стать известно начальнику вологодской жандармерии, с которым я давно в родственных отношениях…
Шаловливая искорка мелькнула в равнодушных и суровых глазах ссыльного, он резко вскинул голову:
— По-моему, вопрос исчерпан?
Старшой сжал кулаки.
— Нам приказано сдать вас в Яренское полицейское управление…
Он, конечно, не верил ни одному слову арестанта, но в жизни все могло быть. Случалось сопровождать не только родственников вологодского жандарма, но и столбовых дворян, которые по выходе из заключения не упускали случая отблагодарить за ревностную службу. Они могли упечь его не только в Яренск или на Сахалин, но и к черту на рога — все бывало с неосмотрительными тюремщиками!
— Я обязан выполнять приказ… — вежливо пояснил он, выпячивая грудь. В любом положении важно не уронить собственного достоинства.
— Значит, в Яренск? — усмехнулся ссыльный. — Ну а если вы сдадите меня в Усть-Сысольске, что от этого изменится?
— Не имею права, — отвечал страж.
— А имеешь ты право кормить нас всю дорогу селедкой и не давать воды, мосол казенный?! — вскипел человек и вдруг угрожающе вскочил на ноги. — Понимаешь, что друг у меня здесь тяжело заболел, лежит при смерти!.. Надо ходить за ним, а везете вы его в Усть-Сысольск! Не понимаешь, сапог?!
Он исчез в трюме, оттуда раздался слабый стон. Потом он снова появился на лестнице.
— Убьете человека — в Петербурге будет известно!
— Бунт? — отскочив от трюма, наершился старшой, но какой-то догадливый стражник тащил ведро воды. Ссыльный передал воду вниз, сел на прежнее место.
— Боитесь ответственности — доложите исправнику. А матерщины чтобы я не слышал, понятно?
— Так точно… — по инерции брякнул старшой и спохватился.
Кто-то засмеялся, но тут же смолк: потянули за рукав.
— Социалист, ядри его в корень! — восхищенно пробурчал армяк и успокоенно отодвинул от себя узел вспотевшей рукой, — Силен, значит.
— Знает дело, видать…
Пароход, сбавляя ход, подваливал к пристани.
Люди, сидевшие на корточках, поднялись. Снова завопили стражники, матросы кинули трап. Процессия двинулась на берег. За нею сходили пассажиры, взамен появлялись новые, — жизнь шла своим чередом.
Старшой поспешил в полицейское управление, снедаемый одним желанием — высадить политика именно здесь: в этом сказалась бы сила закона, позволявшего давать селедку без воды, а значит, и его собственная сила.
Все было во власти исправника. Но исправник, как и следовало ожидать, оказался смертельно пьян. Случившийся же в правлении становой объяснил, что недавно уголовники пронесли в тюрьму ведро водки, перепоили администрацию и сели играть с начальником тюрьмы в «стос». Воспользовавшись повальным пьянством властей, политические устроили демонстрацию с флагом и пели запрещенные песни. Яренская глушь знавала и не такие эксцессы, но последний скандал каким-то непостижимым образом дошел до губернии. Теперь ожидалось опасное расследование, исправник глушил сивуху хотя и не без привычки, но по важной причине — уезд переживал тяжелые дни.
— Политик ершится, — пояснил старшой, потягивая носом и явственно ощущая душок спиртного.
— Чего ему? — строго спросил становой.
— Хочет до Усть-Сысольска ехать, а предписание — вам сдать…
— А ну его к дьяволу! — заревел пристав. — От этой заразы и так житья нету! У нас их тут полгорода, и все с зубами. Вези дальше, черт с ним! В Усть-Сысольске Полупанов ему рога обломает!
Старшой забежал в трактир, хватил от тоски стаканчик водки и, обругав без видимой причины хозяина за стойкой, затрусил к пристани, придерживая на боку шашку.
Пароход снова тронулся, а Яков все сидел в задумчивости, не спеша переваривал в сознании подробности этой истории.
Оказывается, законы были писаны не для всех. Оставалось неясным: плохи ль были люди, которые не подчинялись законам, или сами уложения не стоили беличьего хвоста?
Своим умом Яков никогда бы не решил такого вопроса. Да он и не пытался судить об опасных делах большого и неизвестного ему мира, а лишь удивлялся выдержке и напористости чудного человека с четырьмя фамилиями.
Яков видел, как старшой, покачиваясь, прошел в свою каюту. Стражник был хмур и не глядел на людей. После этого о ссыльном как будто сразу забыли, а трюм остался открытым: для проветривания. Новиков-Кольцов сидел на пороге и хмуро посматривал по сторонам. Глаза его были налиты тяжелой озабоченностью, и он время от времени спускался вниз, к больному.
Один раз Якову показалось, что арестант поглядел ему прямо в глаза, и от этого взгляда стало тревожно на душе. Человек как-то сразу, не спросившись, взял и влез в его душу и затронул там, во тьме и неразберихе, что-то такое, о чем никогда не подозревал сам Яков…
Впрочем, и он вскоре позабыл о случившемся. Ссыльный исчез в трюме, а на закате солнца к Якову подошел большой, толстый, по виду богатый человек в шляпе и негромко спросил о чернобурке. Яков молча достал шкурку, встряхнул в руках. Серебряный ворс запламенел в закатных лучах, а господин, не ладясь, спросил: «Сколько?»— И достал пухлый бумажник.
— Четвертной, — ответил Яков и вдруг испугался.
Он просил немало, но ему жаль было расставаться с чернобуркой. Ведь господин с пузатым кошельком не знал, какую муку и какую радость испытала охотничья душа, выслеживая хитрую матерую лисицу. Он не слышал тревожного дыхания леса, треска сухой ветки под осторожной ногой следопыта, раскатистого выстрела — наверняка в цель… Он не знал этого. Богатый человек просто подходил к охотнику, доставал, наверное, не дорогие для него деньги и забирал добычу себе. Она сразу становилась его собственностью, а Яков не смог бы теперь доказать никому в деревне, что он добыл редкого зверя.
«Неправильно этак», — хотел сказать он, но тут же вспомнил Агашу в старом сарафане, свое решение купить ей крашенины на новый дубас и дорогие серьги перед свадьбой и ничего не сказал.
— Четвертной, — лишь повторил он.
Фон Трейлинг передал ему зеленоватую бумажку и, не спеша завернув дорогую шкурку в газету, ушел в каюту.
Яков вздохнул, потом заставил себя забыть о чернобурке, чтобы не бередить души и не спугнуть удачу, пришедшую к нему в этом году из глубин пармы.
Когда на землю спустились прозрачные ночные сумерки, видел: на верхней палубе стояли рядом молодая грустная барышня и плечистый молодой человек с белым лицом, всклокоченной головой. Она тревожно посматривала вперед, нервно комкала в руках платочек, а он настойчиво искал рукой на железном поручне ее пальцы и пел тихим, бархатным голосом неизвестную Якову песню.
Казалось, молодой человек упрашивает о чем-то свою спутницу, но так умело и красиво, что не стесняется даже чужих людей. А третий класс лишь изредка посматривает вверх и одобрительно прищелкивает языком.
И откуда такие слова — за душу ноготком…
О-о-отвори потихоньку калитку
И войди в тихий сад, словно тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень…
Белая ночь плыла над Вычегдой в неведомое, распластав под луной крылья серебристых облаков. И Якову опять стало обидно за чернобурку, за лося, за погибшую собаку, за все, что было и есть… Нет, он никому не завидовал, но ему просто чуть-чуть стало жаль себя, своих рук и меткого глаза, неутомимых, натруженных ног. Ему было жаль, что он до двадцати лет не мог, не имел времени жениться…

























