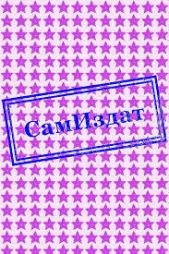И всякий, кто встретится со мной...
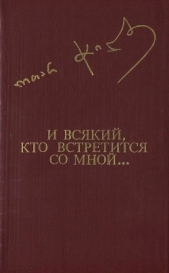
И всякий, кто встретится со мной... читать книгу онлайн
Отар Чиладзе - известный грузинский писатель, поэт и прозаик. Творчеству его присуще пристальное внимание к психологии человека, к внутреннему его миру, к истории своего народа, особенно в переломные, драматические периоды ее развития. В настоящую книгу вошел социально-нравственный роман из прошлого Грузии "И всякий, кто встретится со мной…" (1976), удостоенный Государственной премии Груз.ССР им.Руставели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кайхосро заговорил со священником не для того, чтоб вынудить его повторить некогда сделанное приглашение (в первый же день по приезде Кайхосро в У руки отец Зосиме предложил ему жить у себя, пока он не построит собственного дома; с охотой приютили б его тогда, наверно, и другие, но тогда-то он прекрасно чувствовал себя и в палатке, тогда бездомность его не смущала ничуть). Об этом он и не думал; но встреча со священником невольно вызвала у него желание пожаловаться, передать и другому неотступный страх и тревогу, не дававшие ему покоя, ни на мгновение не покидавшие его после той кошмарной ночи. Почему, в самом деле, он должен был страдать, а служитель божий как ни в чем не бывало ходить по своим крестинам и поминкам, когда именно ему полагалось заботиться о человеке, попавшем в беду, защищать, спасать — или, по крайней мере, хоть утешать его…
— Я не о том, отец мой. В палатке я задыхаюсь от безбожия! — прохрипел Кайхосро.
— Не гневи господа, сын мой. Палатка такой же дом божий, как и церковь! — ответил отец Зосиме.
Его глаза по-прежнему лучились, на влажных алых губах по-прежнему сияла улыбка. Улыбнулся и Кайхосро, но улыбнулся злобно, как человек, понявший, что его дурачат.
— Интересно, что вы скажете потом, когда меня зарежут в этой проклятой палатке? — спросил он, удивленно глядя на пастуха, который, сняв шапку и ухмыляясь, кивал ему в знак приветствия. У пастуха были неровные, торчащие в разные стороны зубы, словно он, не имея настоящих зубов, воткнул в рот все, что ему попалось под руку, — кабаний клык, медную монету, пестрый камушек или осколок стекла. Он усердно хлестал бичом по бокам коров, как бы упрекая их в том, что по их милости двум почтенным людям приходится так долго стоять, прижавшись к забору. — Или я должен радоваться смерти за ближнего своего? — продолжал Кайхосро, показывая рукой на пастуха. Но отец Зосиме прекрасно понял, кого он подразумевает в действительности.
— Бог справедлив! Бог воздаст тебе за помощь вдове и сироте, — ответил он.
— Бог? Воздаст? Чем? — воскликнул Кайхосро. — Мученической смертью?
— Мученической смертью… — задумчиво повторил отец Зосиме, причмокнув губами так, словно пробовал вино. — По правде сказать, и это не так уж мало!
— Спасибо… не хочется. — Лицо Кайхосро изуродовала вымученная улыбка. — Любая смерть, батюшка, одинаково воняет!
— Не смерть воняет, а грех! — повысил голос и отец Зосиме, но его глаза продолжали чистосердечно лучиться.
— По-вашему, значит, и двухмесячный ребенок, и столетний старик грешны одинаково? — съязвил Кайхосро.
— Именно! Все мы дети греха… — сокрушенно вздохнул отец Зосиме.
— Чьего греха? Каких времен? — рассердился вдруг Кайхосро. Его разозлила собака, сидевшая по ту сторону забора, словно неприятельский лазутчик, и глядевшая на него своими влажными, внимательными глазами. — Пошла, пошла отсюда, тварь паршивая! — прикрикнул он на собаку. — Так до каких пор нам чужие грехи искупать? — вновь повернулся он к священнику.
— Без конца, сын мой, без конца… Покуда сами от греха не откажемся! — ответил отец Зосиме.
Кайхосро опять взглянул на собаку; та отвернулась и, нехотя поднявшись, отбежала от забора.
— Твой бог, батюшка, несправедлив… для него и мои слова, и собачий лай одно и то же! — Внезапно он смолк, и в углу его рта появилась кривая усмешка… — Ах, вот что… вот оно, значит, в чем дело!
Представляю себе, что вы обо мне думаете…
— Ничего особенно плохого! — улыбнулся и священник, снимая с плеча Кайхосро липовый цветок. — Впрочем, на месте борчалинца я возблагодарил бы бога за спасение и навек забыл бы дорогу в Уруки!
Кайхосро опешил. Он поглядел на священника, не понимая, подбадривает или высмеивает его этот вечно улыбающийся служитель божий. Отец Зосиме молча вертел в руках цветок липы. «Пошли тебе господь мира, сынок…» — проговорил он наконец таким тоном, словно в самом деле был отцом Кайхосро, хотя и по возрасту, и по виду их можно было принять скорей за братьев…
После изгнания борчалинца Кайхосро стал часто ходить к вдове, и это сближение, которого сам он и не думал скрывать, урукийцев ничуть не удивило (сказать по правде, их удивило б куда больше, если б этого не произошло). В глазах деревни майор был заступником вдовы с сиротой и, взяв однажды на себя эту богоугодную обязанность, должен был выполнять ее до конца. Действительной же причиной его визитов к Анне были страх и ненависть! Все остальные чувства и желания исчезли, но, если б он хоть день не увидел вдовы и ее ублюдка, ни на ком не вымещенная злоба сразу б его прикончила. Вспоминая, какого врага он себе нажил из-за этих чертовых чучел, он задыхался от злости и опять бежал к ним, чтобы вновь и и вновь вымещать свою злобу. «Теперь-то вы успокоились… теперь ваши душеньки довольны!» — орал он на мать с сыном, онемевших от его гнева, но и не сомневавшихся в том, что гнев этот вполне ими заслужен. Майора же, хоть сам он этого и не сознавал, ненависть к матери с сыном мучила так же, как тоска по радостям казармы: оба эти чувства с одинаковой силой рождали в нем потребность постоянной связи, беспредельной близости, осуществление которых сделало б его в одном случае счастливым рабом, а в другом несчастным рабовладельцем. Впрочем, близость с матерью и сыном не только помогала майору изливать желчь, но и приносила ему определенное удовольствие — болезненное, отвратительное, правда, но все же удовольствие, как, скажем, от вскрытия гнойника! После же беседы с отцом Зосиме близость эта обрела вдруг еще один и вовсе неожиданный смысл. Надо сказать, что беседа эта его все же несколько успокоила, а главное, вернула ему способность рассуждать. Будь его дела вправду столь уж неутешительны, зачем священнику было б это от него скрывать? В таком случае он, конечно, посоветовал бы Кайхосро уехать из У руки куда-нибудь подальше или хоть запер бы его в церкви. Но отец Зосиме о борчалинце уж и не думал — он лишь рылся в постели вдовы, в которой этому гнусно чмокавшему губами паскуднику теперь непременно надо было найти майора! Тревоги же ближнего ему были попросту смешны — он ухмылялся, как врач при осмотре объевшегося черешней ребенка. Может, все это и вправду было смешно; может, борчалинец сейчас и в самом деле благодарил аллаха за то, что в чужом огороде ему продырявили лишь руки, а не голову! Хотя нет — благодарить аллаха ему было все-таки не за что; но и желание продолжать борьбу с майором у него, вполне возможно, уже прошло. Для него-то ведь майор, помимо всего прочего, — настоящий майор, то есть армия, государство, а виданное ли дело, чтоб вор и разбойник мстил государству за то, что оно препятствует ему воровать и разбойничать? Вор и разбойник — молодец только с себе подобными; пулю же, полученную от государства, он всегда сочтет заслуженной и справедливой. А если пуля эта попала не туда, куда надо, он отступит, примирится со своей участью и, чтоб люди его забыли, хоть на некоторое время откажется от своего опасного ремесла. Получалось, что борчалинец должен был бы позабыть вдову если не навсегда, то уж во всяком случае надолго! Но если он все-таки не сможет переварить свою потерю, если терзающая его невымещенная злоба вновь приведет его в У руки, тогда зачем ему набрасываться на самого майора, если для удовлетворения его самолюбия, в сущности, безразлично, кто из троих выплатит ему кровавый долг? Будь майор один, тогда этот головорез стал бы искать и с легкостью нашел бы его одного; но если до его появления троица успеет превратиться в семью, в единое существо, то выделять майора особо будет уже бессмысленно — тогда сами со- бой возрастут ценность и значение его подзащитных. Чтоб отомстить семье, вовсе не обязательно уничтожать ее целиком или убивать именно главу семьи: потеря жены, сына или обоих вместе поразит его верней и лучше, чем кинжал. Уж это-то понимать и борчалинец обязан! Месть такого рода была б не только справедливее, но и по-своему заманчивей — ни мне, ни тебе, как настоящим мужчинам и положено. Человек предполагает, а бог располагает — это бесспорно, но может же случиться, что бог хоть раз одобрит предположения человека! Что тогда? Тогда — глупость, и ничто иное, что он зря потерял столько времени, не требуя у вдовы своей честно заслуженной награды! Конечно, удовлетворить свое желание он мог бы и не женясь на Анне — он был уверен, что это-то уж заслужил во всяком случае. Да и она это, вероятно, предпочла б тоже: прожив с мужем два месяца, а с любовником десять лет, она ведь больше привыкла быть наложницей, чем законной женой, а какой же дурак станет пересаживать к себе под крышу дерево, если к нему и без того можно подойти когда захочется и лакомиться его плодами сколько вздумается? Да и не такую женщину надо было бы майору в жены… Возможно, конечно, что все эти десять лет она жульничала, устраивала выкидыши и тому подобное — но, так или иначе, ее способность рожать детей, появись у нее законный муж, была сомнительной. С другой стороны, женившись на Анне, он приобретал не просто жену, а жену с сыном — Георга ведь был налицо, готовенький, и какая, в конце концов, разница, кто смастерил ребенка, если воспитать его по-своему, если твоя воля будет для него законом? Да и в общем-то выбора не было — надо было срочно жениться, и именно на Анне. Что она думает об этом сама, его не интересовало; спрашивать, согласна ли она стать его женой, он счел бы для себя унизительным. Поэтому он просто набросился на нее, едва застав ее одну, не говоря ни слова, не дав ей даже опомниться. Насилие майора Анна восприняла так же равнодушно и покорно, как его ругань, — так, словно ее ничуть не интересовало, что с ней делают, словно ничего неожиданного не происходило и она выполняла лишь свои ежедневные, вошедшие в плоть и кровь, бесконечно осточертевшие обязанности! Бесчувствие женщины оскорбило майора больше, чем отказ или пощечина, но сейчас ему было не до обид — давно сдерживаемая страсть, как жернов, тащила его вниз, в бесконечную, бездонную, мягкую темноту. Когда же в комнату вдруг вошел Георга, майору на мгновение показалось, что они, паскудники, подстроили и это… поэтому-то, наверно, она и не постеснялась средь бела дня ноги задрать! Присев на краю тахты, Анна тихо плакала, словно змея, наевшаяся дикого укропу. От радости, наверно! Радоваться-то ей было чему — шутка ли сказать, какого короля вместо вшивого басурмана заполучила… Выродок же ее так кривил губы, так хмурился, будто действительно вошел случайно и видел «это» впервые в жизни. Майор едва сдержался, едва не огрел обоих своим еще не затянутым ремнем. Но потом он предпочел обойтись без скандала; заманчивая слава заступника вдовы и сироты опять взяла верх, и он, примирительно улыбнувшись, сказал Георге: «Чего ты хмуришься? Чего мы с тобой не поделили? Тебе она мать, а мне жена».