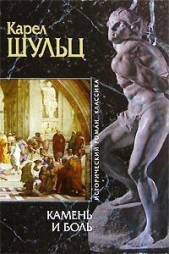Камень на камень

Камень на камень читать книгу онлайн
Роман «Камень на камень» — одно из интереснейших произведений современной польской прозы последних лет. Книга отличается редким сочетанием философского осмысления мировоззрения крестьянина-хлебопашца с широким эпическим показом народной жизни, претворенным в судьбе героя, пережившего трагические события второй мировой войны, жесткие годы борьбы с оккупантом и трудные первые годы становления новой жизни в селе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мать снова спрашивает с порога:
— Чего это он натворил?
Но отец, отвязывавший цепь от конуры, скорее всего, ее не слышал. Толкнул с маху ворота овина, схватил меня за руку и затащил вовнутрь, хоть я и не упирался. Закрыл ворота, еще раза два пнул в них ногой, потому что они плотно не затворялись. Дрожал весь, как в лихорадке, даже цепь позванивала у него в руке. Потом надел эту цепь мне на шею.
— Повешу, стервец, — пробормотал. — Накажи меня бог! В ад вместе с тобой пойду. Но тебя повешу.
Что-то он там делал у меня на шее с этой цепью, а цепь только звенела, как над лошадиной мордой бубенцы. Мне даже казалось, на меня отец надевает бубенцы, точно в санный путь снаряжает, а не на смерть. И оттого, может, я не боялся совсем. Под ложечкой, правда, давило, но не от страха, что придется помереть, а, наверное, от этого хлеба. Ведь я еще не знал, что такое умереть. Покойников, ясное дело, не однажды видал. Притом разных. От старости скончавшихся и от хвороб, утопших и повесившихся. И даже одного такого, Палюхом его звали, он свозил жито и свалился со снопов прямо под колесо. Неживой был, а держался за это колесо, пальцы никак ему не могли разжать. Или мельник Кужея, его привода на мельнице затянули, так он ни на убитого, ни на помершего своей смертью не был похож. А то раз Сильвестр Суйка убил своего брата, Болеслава Суйку, цепами, добро они не поделили. Вроде случайно так получилось, вместе молотили и то ли слишком близко друг к другу стояли, то ли больно длинные у них были цепы. Сильвестр даже плакал над убитым братом, кричал: встань, Болеслав! Воскресни, браток! Будто обратно на молотьбу звал. И казалось, тот сейчас протрет глаза и встанет, кто бы по зову брата не встал? Или Кулага — так свою бабу излупцевал, что она, в чем мать родила, выскочила на дорогу из хаты и упала замертво. И тоже трудно сказать, как оно взаправду было, потому что одни говорили, мертвая она, а другие — бесстыжая. Или Ржыско раз пил, пил в корчме да так и не встал из-за стола. А пьяный покойник с виду все равно как если б просто пьяный лежал. Хозяин бороду на себе рвал, потому что Ржыско ему за то, что выпил, не заплатил. И еще за старое не заплатил, обещал в тот день все отдать. Обшарили его карманы, а там ни гроша. Или одноклассник мой, Ендрек Гузка: посмотрел я на него в гробу — вроде мертвый, а в новом костюме, новехоньких башмаках, новехонькой рубашке, подстрижен, причесан, в жизни я его таким никогда не видал. Подумал даже, наверное, совсем и не плохо помереть. Ендрек поспорил на ножик с Ясем Кулаем, что влезет без веревки на самый высокий тополь за плотиной, около мельницы. Почти до верхушки долез и сорвался. Отнесли мы Ендрека матери, чтоб она его уложила в кровать, вроде в нем чего-то оборвалось. Так она нас последними словами обозвала. И только потом завыла: Ендрусь! Ендрусик! Ендрусечек!
Я бы мог еще много насчитать. Но что такое самому умереть, не знал. А может, и теперь не знаю? Память на покойников у меня, правда, хорошая. Хоть сейчас всех подряд перечислю, начиная с Врубеля. Мне тогда было года три, и мать взяла меня с собой, пойдем, сказала, попрощаемся с Врубелем, помирает он. Я боялся идти, думал, возле Врубеля смерть будет сидеть. А смерти я никогда не видел, кроме как на рождество, но тогда смертью был наряжен кто-нибудь из ребят. Мы вошли, Врубелиха что-то помешивала на плите, Юзек Врубель у окна на лавке сидел, починял вожжи, а в самом углу горницы высоко на белых подушках лежала голова старого Врубеля с усами, раскидистыми как веточки. Мы подошли к кровати, мать перекрестилась, стала на колени и мне велела стать. И тогда эти усы на подушках шевельнулись, а из-под перины высунулась сухая рука и на минуту задержалась на моей голове. Потом мы встали, мать спросила:
— Был ксендз?
— Был, — вздохнула Врубелиха и тут же напустилась на Юзека: — Юзек! Юзек! Да сходи ж ты! Сколько можно упрашивать?!
Я даже, кажется, спросил у матери:
— Мама, а где смерть?
Но она потянула меня за руку, и мы ушли. А на дворе пригревало солнышко, теплынь, и Козея гнал теленка, а теленок ужасно смешно взбрыкивал, я засмеялся, и мать засмеялась, и кто только ни шел по дороге, останавливался — и в смех.
— На колени, — прохрипел отец.
Я бухнулся на колени, цепь зазвенела у меня на шее.
— Перечисли все смертные грехи, — сказал отец. — И в грудь себя бей. Чтобы господь тебя простил. И три раза прочитай «Богородицу», чтоб и богородица простила. — И опустился на колени рядом со мной. Сплел руки на животе, закрыл глаза и тоже начал молиться. Воробьи с гомоном носились над нами по всему овину, словно обозлясь, что мы их всполошили. Я перечислил все семь смертных грехов, как велел отец, но ни один из них не походил на мой. За что же, подумал я, отец хочет меня повесить, когда господь не прощает только смертных грехов?
И тут ворота овина тихонько скрипнули. Я повернул голову и увидел в полосе света на краю гумна мать. Покосился на отца, но он, будто ничего не слышал, молился с закрытыми глазами, сложив руки на животе.
— Нет такой вины, чтобы своему дитю не простить, — заговорила мать. — А это твое дитё. Плохое ли, хорошее, но твое.
Я подался всем телом к матери, так, что опять зазвенела на шее цепь, и крикнул:
— Мама, за что меня тятя повесить хотят?! Лучше я влезу на самый высокий тополь за плотиной и свалюсь!
— Хоть и убей ты его, все равно твое, — теперь как будто мать меня не услышала. — Только уж ты не будешь ни его отцом, ни человеком.
Тогда сплетенные на животе отцовские руки расплелись, ослабли, и он, не вставая, тяжело уперся ими в колени. А под опущенными веками, казалось, сдерживал слезы. Погодя открыл глаза и усталым голосом сказал:
— Забери его. Я еще здесь постою.
После жатвы мать отправилась на поклон святым местам и взяла меня с собой. Шла тьма-тьмущая богомольцев, из нашей деревни и из других. Старые, молодые, мужики, бабы, девки, парни, женатые, замужние, по одному и целыми семьями. Шел ксендз, органист, Франтишек-причетник. Шли хоругви, шел образ богоматери из нашего костела. Шли с рассвета до вечера, с двумя остановками на отдых и одной на обед. Правда, были такие, что совсем бы не отдыхали, только шли и шли. Ночевали мы в деревнях, один только раз спали в лесу, под открытым небом, и раз на помещичьем поле в стогах. В пении тоже устраивали перерывы, ведь пели-то целый день напролет. Кое-кто даже не слушался органиста, который этим пением управлял, и в перерывах пел, особенно те, что шли впереди.
От пения этого люди теряли голоса и через несколько дней уже только кулдыкали, сипели, лаяли, квакали, ушам было больно слушать. У органиста одно легкое, что ли, усохло, и он все чаще объявлял перерывы и все дольше кашлял после каждого псалма. Но людям было наплевать на его кашель и, если он не начинал, начинали петь сами, органист волей-неволей подхватывал. А больше всех усердствовал Здун. Может, и вправду, как люди говорили, ему б надо органистом быть, кабы не его года. Вроде когда-то, если кто хотел, чтобы во время венчания на весь костел пели „Veni, creator“[13], то приглашал Здуна, а органист лишь подыгрывал тому на органе. На обратном пути Здун от этого пенья онемел и только показывал на пальцах, когда хотел что-нибудь сказать. Мать тоже охрипла и потом месяца два ромашку пила. Да и чему тут удивляться, всю дорогу шли в пыли. Раза два, может, побрызгал дождичек, а так все солнце да солнце, у людей в глотках желваки повырастали из этой пыли и слюны.
Я не пел, потому что еще не знал божественных песней, и то у меня в горле першило, все бы плевал и плевал. Шла перед нами Орышка, так она вперед перебралась, мол, Петрушкин малый плюется на каждом шагу. А Валишиха даже поругалась с матерью, что я ей на юбку наплевал, и давай всем показывать, вон чего наделал, стервец, глядите, люди, наплевал. А потом скажет, я на куриный помет села. Еще я наплевал Микуте на сапоги, он мимо нас на другое место протискивался и сам подвернулся под плевок. Попало на голенище, он ничего не заметил, шел дальше, как шел.